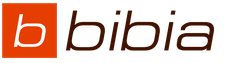Толстой - это великий мастер художественного слова и великий мыслитель. Вся его жизнь, его сердце и разум были заняты одним жгучим вопросом, который в той или иной степени наложил свой болезненный отпечаток на все его сочинения. Мы чувствуем его омрачающее присутствие в "Истории моего детства", в "Войне и мире", в "Анне Карениной", пока он окончательно не поглотил его в последние годы его жизни, когда были созданы такие работа, как "Моя вера", "В чем моя вера?", "Что же делать?", "О жизни" и "Крейцерова соната". Тот же самый вопрос горит в сердцах многих людей, особенно среди теософов; это поистине вопрос самой жизни. "В чем смысл, цель человеческой жизни? Каков конечный исход неестественной, извращенной и лживой жизни нашей цивилизации, такой, какая навязана каждому из нас в отдельности? Что мы должны делать, чтобы быть счастливыми, постоянно счастливыми? Как избежать нам кошмара неизбежной смерти?" На эти вечно стоящие вопросы Толстой не дал ответа в своих ранних сочинениях, потому что он сам не нашел его. Но он не мог прекратить бороться, как это сделали миллионы других, более слабых или трусливых натур, не дав ответа, который, по крайней мере, удовлетворил бы его собственное сердце и разум; и в пяти вышеназванных работах содержится такой ответ. Это ответ, которым на самом деле не может удовольствоваться теософ в той форме, в какой его дает Толстой, но в его главной, основополагающей, насущной мысли мы можем найти новый свет, свежую надежду и сильное утешение.
Основные идеи и специфика философской системы
С точки зрения русского писателя и мыслителя Л. Н. Толстого драматизм человеческого бытия состоит в противоречии между неотвратимостью смерти и присущей человеку жаждой бессмертия. Воплощением этого противоречия является вопрос о смысле жизни – вопрос, который можно выразить так: “Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?”. Толстой считает, что жизнь человека наполняется смыслом в той мере, в какой он подчиняет ее исполнению воли Бога, а воля Бога дана нам как закон любви, противостоящий закону насилия. Закон любви полней и точней всего развернут в заповедях Христа. Чтобы спасти себя, свою душу, чтобы придать жизни смысл человек должен перестать делать зло, совершать насилие, перестать раз и навсегда и, прежде всего тогда, когда он сам становится объектом зла и насилия. Не отвечать злом на зло, не противиться злу насилием – такова основа жизнеучения Льва Николаевича Толстого.
По мнению Толстого человек находится в разногласии, разладе с самим собой. В нем как бы живут два человека – внутренний и внешний, из которых первый недоволен тем, что делает второй, а второй не делает того, чего хочет первый. Эта противоречивость, саморазорванность обнаруживается в разных людях с разной степенью остроты, но она присуща им всем. Противоречивый в себе, раздираемый взаимно отрицающими стремлениями, человек обречен на то, чтобы страдать, быть недовольным собой. Человек постоянно стремится преодолеть себя, стать другим.
Однако мало сказать, что человеку свойственно страдать и быть недовольным. Человек сверх того еще знает, что он страдает, и недоволен собой, он не приемлет своего страдательного положения. Его недовольство и страдания удваиваются: к самим страданиям и недовольству добавляется сознание того, что это плохо. Человек не просто стремится стать другим, устранить все, что порождает страдания и чувство недовольства; он стремится стать свободным от страданий. Человек не просто живет, он хочет еще, чтобы его жизнь имела смысл.
Осуществление своих желаний люди связывают с цивилизацией, изменением внешних форм жизни, природной и социальной среды. Предполагается, что человек может освободиться от страдательного положения с помощью науки, искусств, роста экономики, развития техники, создания уютного быта и т. д. Такой ход мыслей, по преимуществу свойственный привилегированным и образованным слоям общества, заимствовал Л. Н. Толстой и руководствовался им в течение первой половины своей сознательной жизни. Однако как раз личный опыт и наблюдения над людьми своего круга убедили его в том, что этот путь является ложным. Чем выше поднимается человек в своих мирских занятиях и увлечениях, чем несметней богатства, глубже познания, тем сильнее душевное беспокойство, недовольство и страдания, от которых он в этих своих занятиях хотел освободиться. Можно подумать, что если активность и прогресс умножают страдания, то бездеятельность будет способствовать их уменьшению. Такое предположение неверно. Причиной страданий является не сам по себе прогресс, а ожидания, которые с ним связываются, та совершенно неоправданная надежда, будто увеличением скорости поездов, повышением урожайности полей можно добиться чего-то еще сверх того, что человек будет быстрее передвигаться и лучше питаться. С этой точки зрения нет большой разницы, делается ли акцент на активность и прогресс или бездеятельность. Ошибочной является сама установка придать человеческой жизни смысл путем изменения ее внешних форм. Эта установка исходит из убеждения, что внутренний человек зависит от внешнего, что состояние души и сознания человека является следствием его положения в мире и среди людей. Но если бы это было так, то между ними с самого начала не возникло бы конфликта.
Словом, материальный и культурный прогресс означают то, что они означают: материальный и культурный прогресс. Они не затрагивают страданий души. Безусловное доказательство этого Толстой усматривает в том, что прогресс обессмысливается, если рассматривать его в перспективе смерти человека. К чему деньги, власть и т. п., к чему вообще стараться, чего-то добиваться, если все неизбежно оканчивается смертью и забвением. “Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман!”.
Вывод о бессмысленности жизни, к которому как будто бы подводит опыт и который подтверждается философской мудростью, является с точки зрения Толстого явно противоречивым логически, чтобы можно было с ним согласиться. Как может разум обосновать бессмысленность жизни, если он сам является порождением жизни? У него нет оснований для такого обоснования. Поэтому в самом утверждении, о бессмысленности жизни содержится его собственное опровержение: человек, который пришел к такому выводу, должен был, прежде всего, свести свои собственные счеты с жизнью, и тогда он не мог бы рассуждать о ее бессмысленности, если же он рассуждает о бессмысленности жизни и тем самым продолжает жить жизнью, которая хуже смерти, значит, в действительности она не такая бессмысленная и плохая, как об этом говорится. Далее, вывод о бессмысленности жизни означает, что человек способен ставить цели, которые не может осуществить, и формулировать вопросы, на которые не может ответить. Но разве эти цели и вопросы ставятся не тем же самым человеком? И если у него нет сил реализовать их, то откуда у него взялись силы поставить их? Не менее убедительно возражение Толстого: если жизнь бессмысленна, то как же жили и живут миллионы и миллионы людей, все человечество? И раз они живут, радуются жизни и продолжают жить, значит, они находят в ней какой-то важный смысл? Какой?
Не удовлетворенный отрицательным решением вопроса о смысле жизни, Л. Н. Толстой обратился к духовному опыту простых людей, живущих собственным трудом, опыту народа.
Простые люди хорошо знакомы с вопросом о смысле жизни, в котором для них нет никакой трудности, никакой загадки. Они знают, что надо жить по закону божьему и жить так, чтобы не погубить свою душу.
Они знают о своем материальном ничтожестве, но оно их не пугает, ибо остается душа, связанная с Богом. Малообразованность этих людей, отсутствие у них философских и научных познаний не препятствует пониманию истины жизни, скорее наоборот, помогает. Странным образом оказалось, что невежественные, полные предрассудков крестьяне сознают всю глубину вопроса о смысле жизни, они понимают, что их спрашивают о вечном, неумирающем значении их жизни и о том, не боятся ли они предстоящей смерти.
Вслушиваясь в слова простых людей, вглядываясь в их жизнь, Толстой пришел к заключению, что их устами глаголет истина. Они поняли вопрос о смысле жизни глубже, точнее, чем все величайшие мыслители и философы.
Вопрос о смысле жизни есть вопрос о соотношении конечного и бесконечного в ней, то есть о том, имеет ли конечная жизнь вечное, неуничтожимое значение и если да, то в чем оно состоит? Есть ли в ней что-либо бессмертное? Если бы конечная жизнь человека заключала свой смысл в себе, то не было бы самого этого вопроса. “Для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному”, надо выявить отношение одного к другому. Следовательно, вопрос о смысле жизни шире охвата логического знания, он требует выхода за рамки той области, которая подвластна разуму. “Нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос”, – пишет Толстой. Приходилось признать, что “у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить”.
Наблюдения над жизненным опытом простых людей, которым свойственно осмысленное отношение к собственной жизни при ясном понимании ее ничтожности, и правильно понятая логика самого вопроса о смысле жизни подводят Толстого к одному и тому же выводу о том, что вопрос о смысле жизни есть вопрос веры, а не знания. В философии Толстого понятие веры имеет особое содержание, не совпадающее с традиционным.
Это – не осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. “Вера есть сознание человеком такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам”. “Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни”. Из этих определений становится понятным, что для Толстого жизнь, имеющая смысл, и жизнь, основанная на вере, есть одно и то же.
Понятие веры в толстовском понимании совершенно не связано с непостижимыми тайнами, неправдоподобно чудесными, превращениями и иными предрассудками. Более того, оно вовсе не означает, будто человеческое познание имеет какой-либо иной инструментарий, помимо разума, основанного на опыте и подчиненного строгим законам логики. Характеризуя особенность знания веры, Толстой пишет: “Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно-необъяснимому, я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить”. Толстой не признавал бездоказательного знания. Он не принимал ничего на веру, кроме самой веры. Вера как сила жизни выходит за пределы компетенции разума. В этом смысле понятие веры есть проявление честности разума, который не хочет брать на себя больше того, что может. Из такого понимания веры вытекает, что за вопросом о смысле жизни скрыто сомнение и смятение. Смысл жизни становится вопросом тогда, когда жизнь лишается смысла. “Я понял, – пишет Толстой, – что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее”. Растерянное вопрошание о том, ради чего жить, – верный признак того, что жизнь является неправильной. Из произведений написанных Толстым вытекает один-единственный вывод: смысл жизни не может заключаться в том, что умирает вместе со смертью человека. Это значит: он не может заключаться в жизни для себя, как и в жизни для других людей, ибо и они умирают, как и в жизни для человечества, ибо и оно не вечно. “Жизнь для себя не может иметь никакого смысла... Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни”.
28 августа (10 сентября по н. ст.) 1828 года родился Лев Николаевич Толстой. В этом году мир празднует 180-летие со дня его рождения. Гениальный писатель, мастер пластических словесных картин – и создатель утопического учения, которого можно поставить в один ряд с Т. Кампанеллой, Т. Мором и Н.Г. Чернышевским, еретик, оболгавший христианство. Сам Толстой свой уход из Православной Церкви объяснял духовным переворотом, случившимся с ним после постижения истинного учения Христа. Между тем духовный путь Толстого складывался вовсе не так.
Правила жизни
От Церкви и православного вероучения Толстой отошел довольно рано. Тому способствовала обстановка детства: в семь лет ребенок полностью осиротел, его воспитывала дальняя родственница Т.А. Ергольская. В «Исповеди» Толстой писал, что он был крещен и воспитан в православной вере. Однако религиозного чувства у него не развилось, и пылкой детской веры тоже не было, скорее, наоборот: «Я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко». Уже у десятилетнего мальчика это шаткое доверие было подорвано воскресной новостью гимназиста Володеньки М., который сообщил открытие, что «Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки». Это было принято «как нечто очень занимательное и весьма возможное». Духовная атмосфера не располагала к Церкви. Старшего брата Дмитрия, который страстно уверовал в Бога, учась в университете, все прозвали Ноем и подымали на смех; даже попечитель Казанского университета делал неуместные сравнения с библейскими персонажами, убеждая смущенного молодого человека потанцевать. Подобное воспитание убивало в зародыше и без того слабое религиозное чувство ребенка: «Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует».
Зато в детстве пробудился первый интерес к тайне всечеловеческого счастья, не связанного с христианством. Эту тайну, по семейному преданию, старший брат Николай будто бы написал на знаменитой зеленой палочке и закопал ее в яснополянском парке (где потом Лев Толстой завещал себя похоронить). Если люди откроют ее, то она сделает их счастливыми. Толстой в старости писал, что тогда верил в существование зеленой палочки, на которой написано то, что должно «уничтожить все зло в людях и дать им великое благо».
Личное неверие и отказ от Православия направили талантливого юношу к самостоятельным поискам истины и смысла жизни. В 1844 году Лев Толстой поступил в Казанский университет, но в 1847 году оставил занятия и вернулся в Ясную Поляну. Биограф Н.Н. Гусев связывал его уход из университета с тем, что ему приходилось постигать по требованию профессоров совсем не нужные знания, в то время как молодому человеку хотелось свободно приобретать те знания, которые его интересовали. Однако этот поступок был прямо связан с началом формирования у 18-летнего Толстого его собственного мировоззрения и с неудовлетворенностью окружающей действительностью: «Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души», – пишет он в дневнике в марте 1847 года. И первый ключевой вывод, сделанный им в поисках правильной жизни, – решающее значение разума : «Все, что сообразно с первенствующей способностью человека – разумом, будет сообразно со всем, что существует».
Следующим постулатом, к которому пришел Толстой, стало совершенство , явившееся его ответом на вопрос об истинном смысле жизни. Этот вывод, сделанный Толстым в апреле 1847 года, останется и в его позднейшем учении: «Цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего». Молодой Толстой решил заниматься усовершенствованием самого себя по специально разработанной им программе. Были составлены правила, которые должны были разносторонне развить все способности: телесные, умственные, нравственные и душевные качества и особенно сильную волю. Судя по дневникам, «правила жизни» захватили Толстого целиком, но религиозные вопросы пока перед собой он не ставил. Он окончательно разуверился во всем, что слышал об этом в детстве, хотя запись в правиле «для развития воли чувственной» показывает, что толстовское отношение к Богу начало складываться: «Я не признаю любви к Богу, потому что нельзя называть одним именем чувство, которое мы имеем к себе подобным, или низшим существам, и чувство к высшему, не ограниченному ни в пространстве, ни в времени, ни в силе и непостижимому существу».
Через несколько лет Толстой пережил сокровенный религиозный опыт, который, казалось бы, должен был убедить его во многом. В июне 1851 года, находясь в действующей армии на Кавказе, он испытал очень сильное, благодатное чувство на молитве: «Мне хотелось слиться с Существом Всеобъемлющим. Я просил Его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня… Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все – и молитву, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно, чувство, которое я испытал вчера, – это любовь к Богу. Любовь, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное». Пережитое сильное, неподвластное разуму религиозное чувство вызвало у Толстого состояние растерянности и глубокого потрясения, он ненадолго отрекается от требований ясности и разумности, да и от самого себя: «Как смел я думать, что можно знать пути Провидения… Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить Его. Благодарю Его за минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею; хочу постигнуть, но не смею – предаюсь в волю Твою!»
Отсюда начинается толстовское богоискательство (в «Исповеди» Толстой относит его к гораздо более позднему времени). Через год после своего религиозного переживания он находит смысл и закон жизни в добре, которое, в свою очередь, сталосмыслом духовного совершенства: «Дурно для меня то, что дурно для других. Хорошо для меня то, что хорошо для других… Цель жизни есть добро. Средство к доброй жизни есть знание добра и зла… Мы будем добры тогда, когда все силы наши постоянно будут устремлены к этой цели. Удовлетворение собственных потребностей есть добро только в той мере, в которой оно может способствовать добру ближнего». Совершение добра для других есть благо, в котором разумное постижение человеком смысла жизни соединяется с его нравственным жизненным поведением. У добра есть великий залог исправления зла в человеческой природе: «Человек, который поймет истинное добро, не будет желать другого». Эгоизм, «животная», «плотская» бездуховная жизнь есть зло. Толстой остается верным своей идее совершенства, переосмысленной по-новому: «Притом не терять ни одной минуты для познания делания добра есть совершенство». Эта мысль прослеживается в молитве Толстого, составленной им самим: «Боже, избави меня от зла, то есть избави меня от искушения творить зло, и даруй мне добро, то есть возможность творить добро. Буду ли я испытывать зло или добро? – Да будет воля Твоя!»
Однако ниспосланное чудесное переживание не привело писателя к вере, потому что он не смог охватить его разумом. Бог оставался загадкой для Толстого, который мечтал вывести понятие о Нем столь же ясно, как понятие добродетели, но пришел к выводу, что «легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем Существо, сотворившее его». В итоге он отказывается от признания существования личностного Бога, ибо это противоречит разуму и потому что это понятие не укладывалось в практически готовую систему толстовских представлений. Потом он исключит саму возможность молитвы. Мистика была для него неприемлемой.
Молодой Толстой ищет великого приложения своих сил, чувствуя, что «рожден не для того, чтобы быть таким, как все». И уже в марте 1855 года эти поиски приводят его к грандиозному утопическому замыслу, осуществлению которого он решил посвятить жизнь, – «основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Через пять лет, во время похорон любимого брата, идея обрела конкретную форму – «написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Христа-материалиста» – форму, вполне соответствовавшую собственной мысли Толстого.
Такова суть «чистого», еще не перенесенного на христианство толстовства, сформировавшегося к середине 1850-х годов, которое будет развиваться в течение всей дальнейшей его жизни, наполняясь новым содержанием, но никогда не изменится в своей сути. В «Исповеди» нет ни слова обо всех этих исканиях и выводах. Излагая ретроспективно свою жизнь как путь к религии, Толстой во многом создает художественный миф, главная задача которого – показать путь к истине, от тьмы и зла – к свету и добру, и тем убедить читателя в истинности своего учения. Согласно этой концепции, жизнь Толстого делится на два периода. В первом, до начала 1870-х годов, он жил в обществе по его законам, и если у него и были стремления к добру, то он скрывал их от окружающих, никакой веры он не имел ни во что, кроме «абстрактного совершенства», которое скоро сменилось тщеславием, а затем верой в прогресс. Зрелище смертной казни в Париже и смерть любимого брата в 1860 году породили в Толстом «сознание недостаточности для жизни суеверия прогресса» (как мы помним, тогда его уже осенила мысль написать материалистическое Евангелие). Он постепенно убеждался, что смысл в жизни отсутствует вообще, и едва не покончил с собой. Философия и наука не дали ему ответа на вопрос: «Зачем я живу?» Тогда он обратился к «простым людям» и увидел, что они живут верой, от которой он отказался в пользу разума.
После первого этапа жизни «во зле» и пережитого кризиса в конце 1870-х – начале 1880-х годов наступает второй этап: обращение в христианство, духовный переворот и обретение истинной жизни. Периоды «старой» и «новой» жизни, утверждает Толстой, противоположны в своей сути. «Пять лет назад я поверил в учение Христа – жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, что прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось… доброе и злое переменилось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как понимал его прежде», – пишет он в другом программном трактате «В чем моя вера». Итак, постижение «истинного» учения Христа – суть духовного переворота Толстого, как он сам об этом пишет. Забегая чуть вперед, упомянем, что к этому времени Толстой вывел давно желанное понятие о Боге: «Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот Он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь».Толстой, отрицая личностного «плотского» Бога-Творца и Христа-Логоса, верил в Бога-Духа как основу «разумения жизни», как начало всего, как духовное начало в человеке. Бог Толстого – безличностный; «молиться Ему все равно что молиться солнцу или небу, и просить Его о чем-либо все равно что просить о помощи или даровании небесные светила». Но люди есть сыны этого Бога своим духовным началом. Так закончился толстовский кризис, который одновременно завершал его богоискательство.
Толстой подошел к христианству с готовыми идеями. Он, конечно, мучился и метался, пытаясь понять Церковь, но ничего, кроме подтверждения своих мыслей, в ней не искал. Пришел же он в храм вослед простому, трудящемуся, «творящему жизнь» народу. В народной вере Толстого привлекло знание смысла жизни, который он считал истинным, ибо он был «ясен и близок» его сердцу: «Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым». Этот истинный смысл народ черпает из своей веры, и тогда Толстой принял народную веру, то есть стал ходить в храм и усердно исполнять все «обряды», не видя в них никакого смысла и считая все это «странным»: таинства, церковные службы, двунадесятые праздники, посты, поклонение мощам и иконам – то, что символизирует веру в Бога, которой у Толстого не было. Ведь он не считал Иисуса Христа Богом.
В «Исповеди» он признался, что богословие казалось ему «рядом ненужных бессмыслиц», и оно «не лезет в здоровую голову», но тогда он будто бы решил повиноваться всему с помощью различных софистических ухищрений. Например, его старший сын Сергей вспоминал, что отец решил «принять догматику, таинства и чудеса на веру, со смирением, так как разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному – Церкви».
А дальше выявилось главное: не рационализм, как считают многие исследователи, а именно собственные идеи не пустили Толстого в Церковь. Он утверждал, что в Евангелии его больше всего «трогало и умиляло» то учение Христа, «в котором проповедуется любовь, смирение, уничижение, самоотвержение и возмездие добром за зло», во имя чего он, Толстой, и подчинял себя Церкви. «Подчинившись» же Церкви, Толстой заметил, что эта сторона христианства не составляет главного в учении Церкви: «Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается Церковью самым важным». Учение же Церкви о личностном Боге-Творце, Христе-Спасителе и о Его воскресении, Толстому, по его собственным словам, было «не нужно». И потому «совершенно непонятное» для него таинство евхаристии стало ему препоной. Совершение этого таинства без малейшего искреннего чувства нанесло удар по мнимой церковности Толстого: «И зная наперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».
Потом уже, подводя под свое отрицание Церкви нравственный фундамент и упрекая Церковь в забвении Христа, Толстой писал, что оттолкнули его и одобрение Церковью гонений, казней, войн, и неприятие ею других конфессий, но главным было именно «равнодушие» к избранной им сущности христианства: «Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах, а Церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые Церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны, а правил, основанных на христианских истинах, не было». Как видно, он уже точно знал эти «христианские истины».
«Возвещение о благе»
Толстовская критика Церкви показывает, что он совсем не понимал предмет, о котором писал. Так, например, он пришел к выводу, сделанному из изучения «строго логической богословской теории», что будто бы «после Христа верою человек освобождается от греха, то есть что человеку уже не нужно разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только в то, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, то есть совершенно хорош. По этому учению, люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, то есть не могут ошибаться. Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети родятся без мук, болезней нет, смерти нет и греха, то есть ошибок, нет». Изложив эту, по словам архиепископа Иоанна (Шаховского), карикатуру на христианское учение, Толстой делает вывод, что оно – бессмыслица. «Кто верит в Бога, для того Христос не может быть Бог», – поясняет он в «Критике догматического богословия», потому что вера в Христа как в Бога совершенно искажает «истинный» смысл Его учения.
«Дорогие христианские истины» были отобраны Толстым по собственному усмотрению: только то, что являло пример разумного совершенствования в добре без веры и таинственности и даровало блаженство на земле. Это привело Толстого к учению о царствии Божием, которое должно настать в этом мире, то есть к утопии. Осуществил Толстой и свой самый сокровенный, глобальный замысел: в самостоятельном переводе Евангелий с древнегреческого языка и в сведении их «по смыслу» в один текст (что было сделано в 1879–1884 годах) предстало собственное учение Толстого.
Поэтому к чтению Евангелий Толстой подошел с двумя карандашами: синим, чтобы подчеркивать нужное, красным – вычеркивать ненужное. Ведь Евангелия создавали невежественные люди, не свободные от суеверий и наивных мечтаний; они написали много «ненужного», овеяв Иисуса Христа разными мифами, а потом Церковь, окончательно исказив истинное учение Христа, облекла его в мистику. Отсюда явилась задача выбрать из евангельских текстов то, что говорил сам Христос, и то, что Ему приписали.
Прежде всего Толстой полностью отказался от связи христианства с Ветхим Заветом, которая приводит к противоречию между верой во «внешнего, плотского творца» и ожиданием Мессии и простой и ясной христианской истиной без мистики. Толстой вычеркнул все строфы о чудесах Спасителя, Которого он считал обыкновенным человеком. Толстовское евангелие «по смыслу» кончается смертью Иисуса на кресте, когда Он, «склонив голову, предал дух». Дальнейшие евангельские строфы о погребении, воскресении, явлении апостолам и вознесении были вычеркнуты Толстым как «ненужные» (его любимое слово), противоречащие разумному пониманию. Вопрос о бессмертии Лев Толстой, судя по воспоминаниям современников, решал до конца жизни. Он был уверен в том, что человек после смерти «соединяется с Отцом» каким-либо образом, но не будет иметь личного воскресения и продолжения личностного существования в загробной жизни, так как наличие бессмертной души Толстой не признавал. «Воскресение мертвых» его истолкованием означает пробуждение духовной сущности в человеке и начало жизни истинной освобождением от жизни «плотской». Евангельскую строфу «И Я воскрешу его в последний день» Толстой переводит как «и возбужу его до последнего дня». Толстой тщательно выхолащивал Божественное содержание, сочиняя галиматью. Все держится на иносказании, все фразы обретают другое значение, везде – интерпретация текста согласно изначальным идеям, что обусловило его поразительное убожество.
Само слово «евангелие» – «благая весть» – Толстой перевел как «возвещение о благе». Христос у Толстого отличается от евангельского Христа, во-первых, тем, что Он не говорит (из Евангелия вычеркнуто), во-вторых, тем, что Он говорит (оставлено и переведено), в-третьих, тем, что Он говорит сугубо толстовские истины, вроде: «Чтобы понимать Меня, вы должны понимать то, что Отец Мой не то что отец ваш, тот, которого вы называете богом. Ваш отец есть бог плотский, а Мой Отец – дух жизни. Ваш отец бог есть бог мстительный, человекоубийца, тот, который казнит людей, а Мой Отец дает жизнь. И потому мы разного отца дети». Христос Толстого – враг Церкви и мистики. Он Сам не считает Себя Мессией и смысл Своего учения видит в том, чтобы опровергнуть иудейскую веру в Творца и дать вместо нее истину о благе. Он – обыкновенный человек, древний мудрец, понявший истину, личному примеру которого – самопожертвованию – должны последовать люди для достижения всеобщего счастья. Все, что Христос сказал о Себе как о Сыне Божием, в толстовской интерпретации относится ко всем людям без исключения, ибо, по Евангелию, каждый человек – сын Божий (Толстой позволял себе столь простые и ясные выводы). Люди же прозвали Его Христом (Помазанником Божиим) в том смысле, что Он учением о сыновности Богу «возвестил истинное благо».
Толстой превращает христианство в философскую утопию о государстве и о будущем идеальном обществе. Он рисует образ царствия Божия, долженствующего осуществиться на земле. Толстовское евангелие дает такой же утопический образ мира, какой дают описания городов «соляриев» или «утопийцев». Иисус Христос у Толстого не просто фанатик, мечтатель, мученик, идеалист, первый среди равных постигший истину. Он, подобно моровскому Утопу, первооткрыватель этого божественного закона, создатель учения о царствии Божием на земле, возвестивший людям о смысле и человеческой жизни, и человеческой истории.
«Он сказал им: Я Человек, Сын Отца жизни. Всякий человек по духу сын Отца. И если он живет, исполняя волю Отца, то он соединяется с Отцом». Каждого человека Бог оделяет своим началом, которое дает человеку разумение жизни, движет его к Богу и дарует ему «истинную, бесконечную жизнь». Божественное начало сосуществует и противоборствует в человеке со злым «животным», «плотским» началом, источником всякого зла, которое у Толстого тоже безличностно. Можно видеть здесь все тот же ранний толстовский дуализм. По мере обращения людей к истинной жизни духа и исполнения закона Божия в мире осуществится царствие Божие, которое «возвещается как блаженство».
Что же есть закон Божий? Толстой выделил в Евангелии Нагорную проповедь как сущность закона Христа и противопоставил ее Никейскому символу веры как сущности Православия. Объясняется такое выделение тем, что заповеди Нагорной проповеди выражают то новое, по сравнению с законами Моисея, что принес именно Христос. Главным был закон о непротивлении злу насилием, избавляющий человечество от его собственного зла: делай добро в ответ на зло, и зло искоренится. Всего Толстой установил в христианстве пять заповедей, исполнение которых дает осуществление царствия Божия (1. Не обижать никого и делать так, чтобы ни в ком не возбудить зла. 2. Не любезничать с женщинами; не оставлять той жены, с какой сошелся. 3. Ни в чем не клясться. 4. Не противиться злу, не судить и не судиться. 5. Не делать различия между своим отечеством и чужим, «потому что все люди – дети одного Отца»). Сущностью же учения Христа, изложенной в самой сжатой форме, Толстой считал молитву «Отче наш». Он предложил свой «перевод» молитвы. Этот «перевод» – квинтэссенция толстовских идей. Вот он.
Отче наш
– Человек – сын Бога.
Иже еси на небесех
–Бог есть бесконечное духовное Начало жизни.
Да святится имя Твое
– Да будет свято это Начало жизни.
Да приидет Царствие Твое
– Да осуществится Его власть во всех людях.
Да будет воля Твоя яко на небеси
– И да совершается воля этого бесконечного Начала как в самом себе;
И на земли
– так и во плоти.
Хлеб наш насущный даждь нам
– Жизнь временная есть пища жизни истинной.
Днесь
– Жизнь истинная – в настоящем.
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
– И да не скрывают от нас этой истинной жизни ошибки и заблуждения прошлого,
И не введи нас во искушение
– и да не вводят нас в обман.
Но избави нас от лукавого
– И тогда не будет зла,
Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
– а будет Твоя власть и сила и разум.
Интересно отметить еще одну деталь. Перевод Евангелий и трактовка их смысла сделаны Толстым, этим выдающимся мастером слова, нарочито упрощенно, грубо, кощунственно, иногда с бранными выражениями, вульгарно. Толстой, разумеется, адресовался к простому читателю, но вряд ли в одной только популярности изложения дело, ведь речь идет о труде в 800 страниц, половину которого составляют церковные и толстовские комментарии к переводу и толкованиям подлинных евангельских стихов. Думается, что это тоже художественный прием: нарочитая грубость и простота выражает презрение к окружающей «ложной жизни», намеренно опрощая суть христианской истины и демонстрируя всю простоту и ясность жизни по ней в противовес сложному мистическому церковному вероучению. Ведь теоретиком мира, приписанного Христу, выступает сам Лев Толстой. И в учении о царствии Божием на земле он воплощает свою сокровенную идею о разуме и совершенстве, провозглашая «совершенство внутреннее» – духовное и «совершенство внешнее» – социальное. Следование же разуму для достижения блага – «в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа».
Христианство и царствие Божие на земле имеют свою противоположность: это государство и его институты – от Церкви, судов, армии, полиции, собственности, государственных границ, богатства до ненужного искусства. Все это в толстовском евангелии прямо запрещает Христос. Как и такие понятия, как патриотизм и отечество: строфы «любите врагов ваших» Толстой перевел как «врагов вашего отечества», призывая любить их, не воевать с ними и отдавать им то, за чем они пришли.
Царствие Божие наступит на Земле как следствие личного подвига людей, избравших истинную жизнь и принявших религию в качестве «руководства к действию», и достигнется путем совершенствования в добре, исполнения пяти заповедей, самоотречения, самопожертвования по примеру Иисуса Христа, учившего «отдавать свою плотскую жизнь как выкуп за жизнь духа» и умершего за истину, открытую людям. Внутреннее совершенство есть осуществление духовного начала в человеке, то есть «слияние божественной сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога». Идеал этого бесконечного совершенства указан людям в «бесконечном совершенствовании Отца Небесного, к Которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку».
По мере исполнения этого идеала в человеческих душах будет осуществляться и внешнее совершенство: царствие Божие будет воплощаться на земле в адекватном, справедливом социальном строе, который неминуемо сменит ложное государство и «противоестественную» урбанистическую цивилизацию. «Исполнение учения – только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему – подражанию Христу и внешнему – установлению царствия Божия». У Толстого такой социальный идеал – крестьянские земледельческие общины, живущие на полном самообеспечении личным разнообразным, равномерно чередующимся трудом.
Люди должны мирно саботировать государство, отказаться от любого участия в его структурах, покорно терпя все лишения и гонения; покидать города и оседать на землю общинами, возвращаясь к самому истинному, справедливому и радостному труду. Человека, состоявшегося в истинной жизни, после смерти ждет неведомое «слияние с Отцом», а погибшего, не пробудившегося – уничтожение.
Переведенное и сведенное «по смыслу» в единый текст Евангелие стало декларацией идей самого Толстого. Всякая полемика и критика не имела смысла, потому что объективный перевод в задачу не входил. Православные мыслители указывали на его недобросовестность. Святой Иоанн Кронштадтский отметил: «Берется изречение Спасителя и придается ему желательный для автора смысл и значение, без должного соотношения с другими местами Божественного откровения, с другими изречениями Спасителя». Отец Георгий Флоровский усмотрел, что Толстой сверяет Евангелие со своим личным воззрением. Толстой не просто толковал христианские истины по-своему. Он создал собственное стройное учение, изложил его в своем евангелии как в художественном произведении, цитировал во множестве других своих работ. То, что составило манифест толстовства, чем зачитывалась взахлеб русская интеллигенция: о жизни во лжи, мученическом пути к истине, духовном перевороте, об обретении веры, искреннем принятии Христа в сердце и постижении Его истинного учения – все это возвеличивало Толстого, осеняло его славой пророка и заставляло серьезно относиться к его проповеди.
Реакция общества была феноменальной. Множество поклонников называли Толстого «кричащей совестью человечества» и поздравляли с отлучением от Церкви, видя в нем страдальца за Христа. Мережковский объяснил, что поддержал Толстого за проповедь христианства в жизни и жизнью: «Если вы отлучили от Церкви Л. Толстого, то отлучите и нас всех, потому что мы с ним, а мы с ним потому, что верим, что с ним Христос». Но у Толстого и толстовства было и много противников. Одни называли его гением убожества, другие – яснополянским палачом, обвиняя Толстого в моральном душегубстве, потому что он лишал человека веры в спасение и вечную жизнь. Лучше всех о Толстом и толстовстве сказал И. Концевич, изучавший истоки толстовской «душевной катастрофы»: «Чувство превосходства над всеми и всем – вот та внутренняя тайная сила, которая руководит ходом всей его жизни. Не свободен в поисках истины и разум; подчиняясь главной страсти, Толстой является ее рабом, ее жертвой. Чувство собственного превосходства заставляет Толстого с молодых лет стремиться стать учителем человечества. С этой целью он задумывает создание новой, высшей, превосходнейшей религии, долженствующей осчастливить человечество. Так Евангелие приносится в жертву этой страсти. Молоху, царящему в сердце Толстого».
Определение 1
Толстой Лев Николаевич ($1828 – 1910$) русский писатель, мыслитель.
Не раз отмечалась характерность русской философии её тесную связьь с расцветом русской литературы.
Замечание 1
В истории национальной философии особое место занимает Лев Толстой. Помимо своей гениальности как художника, литератора, он был выдающимся философом, хотя и односторонним. Но его сила и выразительность, с которой он развивал собственные идеи и мысли, ни с чем не сравнима. Его слова наполнены простотой, но вместе с тем, они имеют необычайную глубину и огненную силу. Вместе с другими русскими философами Толстой делает акцент на мораль, но с его позиции это настоящий «панморализм», а не « примат практического разума». Его нетерпение к идеям, которые не укладывались в рамки его собственной философии, говорит лишь о том, как его волновала та мысль и правда, которые он высказывал в своих работах.
Философские идеи
Поиск смысла жизни, пожалуй, самое выразительное и непревзойдённое героическое искание, представленное в страстной борьбе с вековыми традициями. Он противился «духу века сего», что выносит его за рамки исключительно российской философии и ставит его в ряд с другими выдающимися мыслителями и философами эпохи. Толстой – мировое явление, но полностью позиционирующее себя как типично русское, не мыслящее себя вне русской жизни.
Готовые работы на аналогичную тему
- Курсовая работа 430 руб.
- Реферат Л. Н. Толстой и его философия 250 руб.
- Контрольная работа Л. Н. Толстой и его философия 190 руб.
В $70$х года Толстой переживает глубокий духовный кризис, который он выразил в своём произведении «Исповедь ».
Исповедь – жанр религиозной литературы. Помощь Бога – акт молитвы. Это размышление перед лицом Бога. Молитва настраивает человека на искренность. Молитва в конце как благодарность.
Смысл исповеди – осознать свои грехи. Исповедующийся – грешник. Но Толстой подразумевал другой смысл исповеди. Он исповедуется перед собой. Через отрицание Бога мы придём к Богу. А если Бог отрицается, следовательно, он не истина. Сомнение во всём. Сомнение в вере. Это приход к бессмыслице. Отрицание смысла, отсутствие смысла жизни.
Поиск смысла жизни. Невозможно жить без смысла жизни. Возникает проблема смерти, которую в этот момент мучительно переживает Толстой, это трагедия неизбежности смерти, которая доводит его до идеи самоубийства. Этот кризис приводит Толстова к разрыву отношений с секулярным миром. Он сближается с «верующими из бедных, простых, неученых людей», как пишет в «Исповеди». Именно в простых людях Толстой находит для себя веру, которая давала им смысл в жизни. С присущей ему страстностью, Толстой жаждет наполниться этой верой, войти в мир веры. В этот момент он полностью осознаёт свой разрыв с церковью, с церковным толкованием Христа, христианства, и встаёт на путь «самунижения и смирения». В упрощенном виде богословский рационализм занимает его мышление. Это приводит к тому, что Толстой формулирует собственную метафизику на отдельных положениях христианства. В его понимание христианства входит отрицание божественности Христа и его Воскресение, видоизмененный текст Евангелия с акцентом на те моменты, которые, по его мнению, возвестил миру Христос.
Труды Толстова в этот период включают в себя 4 тома
- «Критика догматического богословия»,
- «В чем моя вера»,
- «О Жизни».
Это его самый значительный мыслительно-философский этап.
Мистический имманентизм
Толстой создаёт свою систему мистического имманентизма, который был близок к идеям рационализма нового времени, то есть отрицанию всего трансцендентного. Однако, это – мистическое учение о жизни и человеке, что крайне значительно отделяло его от современной философии. Толстой, таким образом, разрывал свои отношения и с церковью и с миром. Ключевые темы философии Толстова всегда были в фокусе его этических исканий. Это можно охарактеризовать как «панморализм». Это стремление подчинить науку и философию этике.
Толстовство
Религиозные и нравственные идеи Толстого воплотились в движении толстовства.
Толстовство – религиозно-этическое общественное течение, которое возникло благодаря религиозно-философскому учения Толстого.
Ведущие темы:
- непротивление злу насилием,
- всепрощение,
- всеобщая любовь и нравственное самоусовершенствование личности,
- опрощение.
13. Учение Толстого
Мы остановимся только на самых существенных пунктах:
1). Основная идея жизни - идея религиозная.
"Как ни храбрись, - говорит Толстой, - привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов, не руководительница, а слуга. Миросозерцание всегда дано ей религией готовое, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни".
Ту же самую мысль он повторяет постоянно. Например:
"Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от одного света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно ему, а надо жить как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других, после того как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей..."
Такие нападки на науку и презрительный тон по адресу законов "исторических", "социологических" и других не должны удивлять нас. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что, как мы видели уже раньше, он спрашивал ее совсем не о том, о чем можно спрашивать науку.
Но если мы оставим в стороне слишком резкую формулировку Толстого, чем он постоянно грешит, говоря о науке или философии, и посмотрим лишь на остов мысли, выраженной в предыдущих словах, то найдем совершенно справедливое указание на одну существенную черту научного и философского мышления - именно на признание "необходимости" в жизни. Наука и философия не могут так беспредельно верить в силу человеческого разума, как верит в нее граф Толстой. Наука и философия рассматривают и изучают человека не самого по себе, а в отношении ко вселенной, к истории, к тому, что делалось миллионы лет тому назад и будет делаться миллионы лет спустя, когда нас лично не было и не будет. Отсюда и различие в оценке. Поставив человека рядом с Казбеком или Монбланом, мы найдем, что он -предмет очень милый с виду; но, поставив его рядом с мухой, найдем, что он - существо довольно обширных размеров. Говоря о личной жизни и даже жизни отдельного поколения в сравнении с прошлой и будущей судьбой всего человечества и всей вселенной, мы едва ли придадим им ту важность, которую необходимо придадим, если посмотрим на них как на нечто самостоятельно сущее. Астроном, изучая образование вселенной, геолог - образование земной коры, физик и химик - свойства и деятельность элементов, историк - прошлое человека, никак не могут проникнуться безусловным уважением к разуму человеческому, потому что до сей поры они ни на чем не видели его следов, или же эти следы так же незначительны, как следы ребенка на гранитной скале. Даже, повторяю, историк смело может спросить себя, что же сделал человеческий разум? Пока слишком мало. Величайшие факты нашей новой европейской истории -переселение народов, падение крепостничества, развитие капиталистической системы хозяйства - не носят на себе ни малейших следов разума человеческого. На каком же основании можно возлагать на этот последний такие большие надежды? Не говоря уже о том, что и понять-то что-нибудь очень трудно при несомненной умственной косности и умственной забитости большинства людей - перевести это понимание в действия в 999 случаях из 1000 прямо невозможно. Граф Толстой утверждает, однако, что это очень легко. "Только бы, - говорит он, - люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им"...
Только бы... только... да в этом "только" вся суть и заключается.
Но с этой преувеличенной верой Толстого в силу человеческого разума и воли, с его благородным, хотя и утопическим убеждением, что жизнь переменится сразу, если мы того захотим и поверим,- мы еще встретимся. Пока же второй пункт, который гласит:
2) Религиозная идея практична, то есть ведет человека не к созерцанию, а к деятельности, поступкам. Она дает человеку правила жизни и прежде всего выводит его из заколдованного круга личного эгоизма.
Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Граф Толстой решительно это отрицает.
"Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя, в будущем не нужны; все это обман, которым мы сами обманываем себя. Притчей о виноградарях Христос разъясняет этот источник заблуждения людей... заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков, кончающихся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. По учению Христа люди должны "понимать и чувствовать", что со дня рождения и до смерти они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и перед живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего".
Несколькими строками ниже Толстой говорит и понятнее: "Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей".
Хотя мысль эта выражена в очень общей и потому совершенно неубедительной форме, я все же думаю, что ни наука, ни философия ничего против нее возразить не могут. Человек как личность на самом деле находится в неоплатном долгу перед жившими, живущими и имеющими жить, и давно уже не только сказано, но и доказано, что один, предоставленный самому себе, он может разве лишь с успехом обрасти шерстью. Толстой вообще не устает называть личную жизнь призраком - призрачной, из чего совершенно естественно вытекает вывод, что истинная жизнь может быть основана лишь на отречении от себя для служения людям.
3) Современное учение мира противоречит учению Христа. Толстой постоянно возвращается к этой мысли, и, надо согласиться, в этом сила его учения.
Он шел как-то по Москве и увидел сторожа, грубо отгонявшего нищего от ворот, где нищим стоять было воспрещено. "Евангелие читал?" - спросил сторожа Толстой. "Читал". - "А читал: "И кто накормит голодного!.." Я сказал ему это место. Он знал его, выслушал. И я видел, что он смущен. Ему, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, вдруг оказался неправ. Он был смущен и видимо искал отговорки. Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет; он повернулся ко мне боком, как бы уходя. "А наш устав читал?" - спросил он. Я сказал, что не читал. "Так и не говори", - сказал сторож, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту. Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мною и стоит перед каждым, называющим себя христианином".
Учение Христа построено на любви и братстве, наша жизнь - на силе. Сильный преобладает над слабым, ученый - над глупым, богатый - над бедным, талантливый- над бесталанным.
Что же делать? Прежде всего одуматься и спросить себя: приносит ли мне счастье та самая жизнь, на которую я трачу все свои силы? Двух ответов на этот вопрос, по словам Толстого, быть не может. Мы живем по учению мира, думаем о накоплении богатств, о превосходстве над другими, о галантном воспитании детей своих, хлопочем, беспокоимся, мучаемся, и все это из-за чего? Чтобы жить, как люди, или чтобы не жить хуже других людей. Толстой одумался и пришел к такому выводу: что "в своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их стало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь,- все это есть мученичество во имя учения мира. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую в мирском смысле, жизнь. Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что все, что мы переносим для него, необходимо".
"Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и вглядитесь в эти истомленные тревожные лица, и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам удалось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, отчаяние и горе, приводящие к самоубийствам?"
Ответ Толстого прост: мы - мученики учения мира. Противоположное учению Христа, оно ведет нас к братоубийственной борьбе, злобе, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляет нас желать гибели ближнего и опускать руку, протянутую на помощь ему. Оно ставит для нашей деятельности ненужные и пустые цели, преследуя которые, мы совершенно забываем об истинном смысле жизни. И это забвение не проходит даром: мы расплачиваемся за него преступлениями, самоубийствами, тяжелым и постоянным чувством недовольства и неудовлетворенности. Гонясь за призраками мирских идеалов, мы ощущаем лишь пустоту и утомление. В нашей жизни нет счастливых людей. "Поищите,- говорит Толстой,- между этими людьми и найдите от бедняка до богача человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего он считает для себя несчастием. И как только он приобретет то, что требуется от него, потребуется еще другое и еще другое, и так без конца идет эта сизифова работа, губящая жизнь людей".
Итак, виновато "учение мира", и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при каких усилиях не обеспечивает человеку счастья. Преступления и самоубийства, разрывные бомбы и казни, чума и неурожаи, бунты и драки - вот, по-видимому, тот материал, которым наполняется наше ежедневное существование. Изредка выступает на сцену какой-нибудь "отрадный факт", такой микроскопический, что сравнительно с окружающим его злом он представляется камешком, катящимся по крутизне Казбека, и робким блеском фонаря над темнотой пропасти, куда не достигают даже лучи солнца. Где же тут говорить о счастье?.. Чтобы было счастье, надо прежде всего держаться по Толстому знаменитого правила:
4) Не противься злу.
Я совсем не оптимист и живу в том убеждении, что как ни страшно то зло, которое мы знаем, оно не составляет и сотой доли того зла, которого мы не знаем. Мы не знаем и не можем знать, как страдает мать, на руках которой умирает голодный ребенок; мы не знаем и не можем знать, что испытывает человек, когда над ним опускается топор гильотины. Для нас это иероглифы. И однако, несмотря на такой взгляд на вещи, я полагаю, что Толстой слишком сгущает краски. Он сгущает их, когда говорит, что страданий, перенесенных им лично в его исключительно счастливой жизни, хватило бы на доброго христианского мученика; сгущает краски и тогда, когда говорит, что учение мира - одно сплошное зло.
Я не буду говорить банальной и пошлой фразы, что рядом со злом существует и добро, рядом с человеконенавистничеством проявляется сострадание... ну, филантропия, что ли. Бог с ними, и с добром нашей жизни, и с филантропией, так как, очевидно, не в них дело.
Я спрашиваю себя: что такое добро? Добро - наслаждение, и сумма этих наслаждений составляет счастье. Зло - страдание. В результате счастья - продолжение жизни, в результате страдания - прекращение жизни, то есть смерть. Смерть неминуема, если сумма наслаждений меньше суммы страданий; жизнь возможна лишь при том условии, что сумма наслаждений перевешивает сумму страданий. Это элементарный вывод биологии, и ясно, что вытекает из него.
Пусть не Толстой, а другой кто-нибудь, хотя бы второй Шопенгауэр или Гартман, составят список всех проявлений зла. Исписав три стопы бумаги, они увидят себя лишь в самом начале работы... И все же жизнь продолжается, и все же люди живут дольше, чем прежде, и все же работа человечества не прекращается ни на минуту.
Сумма наслаждений превышает сумму страданий. Но как? Где тот таинственный знак, который отрицательную величину обращает в положительную? Где то, что делает нашу жизнь, полную зла, все же способною продолжаться?
Я знаю, что ответ будет неприятен последователям графа Толстого, и все же не вижу причины скрывать его. Этот таинственный знак, это то, что мы ищем, есть не что иное, как противление злу. В борьбе-то с ним, постоянной, упорной, настойчивой, человечество находит неиссякаемый источник наслаждения, и эта-то борьба дает ему возможность переносить то, что с точки зрения разума непереносимо.
Не буду спорить о термине: противление насилием или без насилия. Насилие насилию рознь. Мать, которая укладывает ласково и нежно своего ребенка, не хотящего спать, - совершает над ним насилие; солдат, который грубо ведет меня за шиворот в плен, совершает надо мной насилие; жена, которая не дает мне, больному, того, что для меня вредно, совершает насилие; Толстой, который гениальной страницей, исполненной отрицания, выводит меня из состояния блаженного неведения, совершает надо мной насилие, и лучшее доказательство, что это действительно насилие, то, что я спорю с ним. В одном случае я дерусь, в другом спорю, в четвертом барахтаюсь, - и там, и здесь противлюсь. Противление, какое бы то ни было, дает перевес наслаждению над страданием, и так было всегда, пока жило человечество. Троглодит, противившийся напавшему на него пещерному льву; русские люди, противившиеся вторжению Наполеона; публицист, противящийся лжи и суеверию, - все они насильники в том или другом виде и все они в противлении-то и находили наслаждение, которое позволяло переносить страдание.
Если же мы признаем, что противление злу, давая человеку неиссякаемый источник наслаждения, обусловливает саму возможность жизни, погруженной во зло, то мы поймем не только то, как это мы все еще живы, но и то, как мы будем жить дальше, хотя бы зло возросло.
Но, скажут, Толстой не отрицает противления вообще. Он отрицает лишь противление злу злом, насилию насилием и требует, чтобы человек шел дорогой добра, несмотря ни на что. Это, однако, не так. Текст ясен: не противься злу, не больше и не меньше.
Мне кажется, что, хотя Толстой и сделал текст о непротивлении злому краеугольным камнем своего учения, все же в толковании этого текста он часто противоречит себе. В одном месте он пишет: "Слова эти: не противься злу и злому, понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим для меня все". Что же могут означать эти слова в их прямом значении? Не противься злу никак: ни злом, ни добром, ни насилием, ни убеждением, ничем, что находится в твоем распоряжении. Что же это за "все"? Что мог открыть Толстому их прямой смысл? Если бы он рассуждал не как живой и великий человек, а как логическая машина, он бы сказал: это все есть полное ничто, это все есть переход aus individueller Nichtigkeit ins Urnichts [из индивидуального ничтожества в первозданное ничто (нем.)], то есть нирвана. Однако Толстой требует добра, правды, любви. Очевидно, что он придал тексту слишком широкое значение, сделав его краеугольным камнем своей нравственности, и вместе с тем слишком узкое, полагая, что он совместим с проповедью деятельной любви. Непротивление злу - требование отрицательное и, как таковое, может вести лишь к полному устранению от жизни. Здесь очевидная путаница.
Кроме этого, никогда я не понимал и теперь не понимаю, почему вместо текста отрицательного Толстой не сделал краеугольным камнем текст положительный, о деятельной любви, например: "Вера без дел мертва есть"? Много бы путаницы избежал он в таком случае. Но он настаивает, что заповедь деятельной любви целиком вытекает из заповеди непротивления злу. Как, каким образом? Дойдя до этого вопроса, Толстой всегда ставит точку и начинает говорить о другом.
Для излюбленной своей теории непротивления злу граф Толстой не признает решительно никаких ограничений, даже таких, которые проистекали бы из чисто рефлективной стороны человеческой природы. В своем знаменитом письме к Энгельгардту он говорит, что если бы улус ворвался в его дом и на его глазах стал резать его родного ребенка - он не противился бы.
В "Сказке об Иване-дураке и его двух братьях" есть такая страница.
"Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали - нет войска. Ждать, пождать- не окажется ли где? И слуха нет про войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат - дивятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину, дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню - все то же. Походили солдаты день, походили другой - везде все то же; все отдают, никто не обороняется и зовут к себе жить: коли вам, сердешные, говорят, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить. Походили, походили солдаты - нет войска; а все народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется, а зовет к себе жить. Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю. - Не можем мы, говорят, воевать; отведи нас в другое место; добро бы война была, а это что - как кисель резать. Не можем больше тут воевать. - Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить. - Не послушаете, говорит, моего приказа, всех, говорит, вас расказню. - Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали дома, хлеб жечь, скотину бить. Все не обороняются дураки, только плачут: плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята. - За что, говорят, вы нас обижаете? Зачем, говорят, вы добро дурно губите; коли вам нужно, вы лучше себе берите. - Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось".
По смыслу рассказа "Крестник" выходит, что человек, убивший в горячности разбойника, занесшего уже топор над его матерью, совершил "великий грех".
Мне кажется, что рассматривать подобные правила с их философской стороны совершенно излишне: надо лишь самого себя поставить в ту обстановку, которую описывает граф Толстой, и спросить себя: что я в таком случае буду делать?
Буду ли я, как дурак из сказки об Иване-царевиче, равнодушен, видя, что на моих глазах насилуют мою жену, буду ли смиренно упрашивать насильника: "Да оставайся, сердешный, совсем у нас"? Буду ли я спокоен и смирен при убийстве моих детей или матери? Я не могу оставаться спокойным, и в этом не могу - лучший ответ на проповедь графа Толстого. Против возмущения моего рассудка я еще в силах бороться и в силах подчинить его себе, но против возмущения инстинкта, рефлекса, я так же бессилен, как бессилен не вздрогнуть, когда мне неожиданно воткнули иголку в спину, бессилен не чихнуть, когда раздражили слизистую оболочку носа, не сжать зрачка, когда к нему пододвинули свечу. Но инстинкт, рефлекс - это основание нашей человеческой жизни, девять десятых которой, кстати сказать, проходят в совершенно бессознательных процессах, и, "уничтожив эту основу, я уничтожу самую возможность жизни", что, впрочем, блестяще высказано самим графом Толстым в "Войне и мире".
Переходим к пятому пункту учения:
5) Помогай ближнему и люби его. Устанавливая это правило, граф Толстой особенно колебался, особенно искал и мучился. Как и чем можно помогать ближнему?
Его живое человеческое сердце требовало подвигов самоотречения и самопожертвования, его аналитический резонерствующий разум ни на минуту не переставал мудрствовать лукаво и в этом своем мудрствовании лукавом то и дело сталкивался с живым призывом живого человеческого сердца. Уже с детства Толстого больше всего привлекала практическая сторона христианства - учение и должно было лечь в основу всей нравственной его философии, но резонерствующий разум не позволяет так просто посмотреть на дело и, не придя, в сущности, ни к чему, доставляет своему владельцу лишь долгие муки бесплодных исканий. Всякий, я думаю, помнит, как Толстой, попав однажды в Ржанов дом в Москве,- этот притон страшной нищеты, и притом нищеты безнадежной, не знал, что сделать с оставшимися у него тридцатью семью рублями. Этот эпизод заставил Михайловского написать горькие и блестящие строки:
"Мы, - говорит Н. К. Михайловский, - в Ржановом доме, в самом центре нищеты; она, хоть и пьяная и безобразная, но подлинная и несомненная, кругом кишмя кишит. Графу Толстому нужно отделаться от 37 рублей, то есть раздать их. И посмотрите, как это оказывается трудно. Граф и сам раздумывает, и трактирщика Ивана Федотыча на совет зовет, причем этот Иван Федотыч, эта пиявица, сосущая и спаивающая нищету, оказывается и "добродушным", и "добросовестным". На совет приглашается еще и трактирный половой, и вот начинаются размышления: куда девать 37 рублей? Лакей предлагает дать Парамоновне, которая "бывает и не емши", но Иван Федотыч отвергает Парамоновну, потому "загуливает". Можно бы Спиридону Иванычу помочь, но и тут трактирщик находит препятствие. Акулине можно бы, да она "получает". "Слепому", так тому сам граф не хочет: он его видел и слышал, какими он скверными словами ругается, и т. д. Согласитесь, что эта сцена поразительная и характерная: среди кишащей кругом нищеты граф не знает, как "отделаться" от 37 рублей, и все резонирует и резонирует, к каковому занятию даже еще и трактирщика, и полового привлекает. Неужели это живое чувство? Пусть всякий, действительно простой сердцем человек пойдет с 37 рублями в кармане и с решимостью от них отделаться в Ржанов дом да посмотрит хоть на Парамоновну, которая "бывает и не емши"... А тут, помилуйте, "верст на тысячу в окружности повестив свой добрый нрав" и порешив важнейшие вопросы наигуманнейшим образом, так беспокоятся о 37 рублях и так стараются, чтобы они достались, пожалуй, и такой, которая не емши, но чтобы не "загуливала", а добродетелью сияла. Это за тридцать-то семь рублей еще и добродетель им подавай... Нет, как хотите, а живого, непосредственного чувства тут маловато".
В конце концов граф Толстой пришел к выводу, что помогать ближнему деньгами нельзя, ибо деньги - зло; нельзя помогать ему и знанием, ибо все мы - невежды и наука призрачна; нельзя помогать и заступничеством, ибо это ведет к противлению. Чем же помогать? - Любовью...
Когда начался в России голод 1891-1892 годов, Толстой напечатал статью, в которой признавались ненужными денежные пожертвования голодающим и отрицалось вообще всякое активное вмешательство в жизнь, вернее, смерть миллионов людей. Так говорил резонерствующий ум. Прошло немного дней, и мы видим Толстого в самом центре нищеты, раздающего хлеб и деньги, устраивающего даровые столовые.
Так заставило его поступить глубоколюбящее человеческое сердце.
Что же делать в конце концов, как остаться чистым среди жизненной грязи, как быть нравственным среди безнравственных, правдивым среди лжи, христианином среди торжествующего учения мира? Все эти вопросы можно соединить в один: каким же путем добиться счастья и душевного спокойствия, гармонии между словом и делом, убеждениями и жизнью? В ответ на это граф Толстой выставляет перед нами идеал мужицкой трудовой жизни.
"На вопрос, что нужно делать? - пишет Толстой, - явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно - мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я сам могу сделать... На вопрос, нужно ли организовать этот физический труд, устроить сообщество в деревне на земле, - оказалось, что все это ненужно, ибо человек, трудящийся сам собой, естественно примыкает к существующему сообществу людей трудящихся. На вопрос о том, не поглотит ли этот труд всего моего времени и не лишит ли меня возможности той умственной деятельности, которую я люблю, к которой привык и которую в минуты самомнения считаю небесполезною другим, ответ получился самый неожиданный. Энергия умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь от всего излишнего, по мере напряжения телесного. Оказалось, что, отдав на физический труд восемь часов, - ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часов".
Граф Толстой предлагает такое распределение дня:
"День всякого человека самой пищей разделяется на четыре части, или четыре упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака; 2) от завтрака до обеда; 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он по самому существу своему чувствует потребность, тоже разделяется на четыре рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч, спины - тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук - деятельность ловкости, мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми. Блага, которыми пользуется человек, тоже разделяются на четыре рода: всякий человек пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда: хлебом, скотиной, постройками, колодцами, прудами и т. п.; во-вторых,- деятельностью ремесленного труда: одежей, сапогами, утварью и т. п.; в-третьих,- произведениями умственной деятельности: наук, искусства; и, в-четвертых,- установленным общением с людьми. И мне представилось, что лучше всего бы было чередовать занятия дня так, чтобы упражнять все четыре способности человека и самому производить все те четыре рода благ, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня - первая упряжка - была посвящена тяжелому труду, другая - умственному, третья - ремесленному и четвертая - общению с людьми. Мне представилось, что тогда только уничтожится то ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое не нарушает счастия человека".
Общие замечания об учении графа Толстого. Взяв это учение в совокупности, вы видите, что оно имеет несколько разнообразных источников, из которых первый есть: ненависть к учению мира во имя учения Христа.
Мне кажется, что этот источник самый существенный, а заключенное в нем противоречие - самое конкретное и удобопонятное. В главе о писательской драме мы видели, что заставляло Толстого признавать бесполезными и даже вредными свои произведения. Он делал им очную ставку с нуждами и потребностями народа, и на этой очной мучительной ставке гениальные художественные произведения ясно выражали свою виновность. Но признание бесполезности и даже вредности достигло крайнего своего напряжения, когда граф Толстой спросил себя: чему он служит, что проповедует? Оказалось, что как сама его жизнь, так и все его произведения служат учению мира и проповедуют силу. Он хотел быть здоровее, умнее, славнее других, он проповедовал прелесть семейной обеспеченной жизни, которую надо завоевать. Быть здоровее, умнее, славнее других - значит быть сильнее их. Завоевать себе семейную обеспеченную жизнь можно лишь силой красоты, ума, дарования, богатства. Его лучшие герои выделяются то как хозяева, то как таланты, то есть выделяются своей силой.
Он уверовал в Христа, и служение силе, проповедь силы показались ему и преступными, и греховными.
Учение Христа - учение любви. Христос запретил своим ученикам называть кого бы то ни было погибшим и погибающим. Для него не существовало ни эллинов, ни иудеев, ни рабов, ни свободных - он знал только людей. В жизни он воплощал лишь один закон - закон любви.
Толстой как христианин идет по той же дороге. Его народные рассказы все написаны на одну и ту же тему о том, что смирение как закон любви выше какого бы то ни было другого закона, служа которому человек служит самому себе.
Это настроение Толстого превратилось в философскую систему; он говорит:
"Религия есть установленное человеком между собой и вечным и бесконечным миром или началом и первопричиной его известное отношение.
Из этого ответа на первый вопрос сам собою вытекает и ответ на второй.
Если религия есть установленное отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, то нравственность есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к миру. А так как основных отношений к миру или началу его известно нам только два, если рассматривать языческое общественное отношение как распространение личного, или три, если рассматривать общественное языческое отношение как отдельное, то нравственных учений существует только три: нравственное учение первобытное дикое, личное нравственное учение языческое или общественное и нравственное учение христианское, то есть служение Богу, или Божеское.
Из первого отношения человека к миру вытекают общие всем языческим религиям учения о нравственности, имеющие в своей основе стремление к благу отдельной личности и потому определяющие все состояния, дающие наибольшее благо личности и указывающие средства приобретения этого блага.
Из этого отношения к миру вытекают нравственные учения: эпикурейское в низшем проявлении, учение нравственности магометанское, обещающее грубое благо личности на этом и на том свете, и учение светской утилитарной нравственности, имеющей целью благо личности только на этом свете.
Из того же учения, ставящего целью жизни благо отдельного человека, а потому избавление от страданий личности, вытекают нравственное учение буддизма в его грубой форме и светское учение пессимистическое.
Из второго, языческого, отношения человека к миру, ставящего целью жизни благо известной совокупности личностей, вытекают нравственные учения, требующие от человека служения той совокупности, благо которой признается целью жизни. По этому учению пользование личным благом допускается только в той мере, в которой оно приобретается всею тою совокупностью, которая составляет религиозную основу жизни. Из этого отношения к миру вытекают известные нам нравственные учения древнего римского и греческого мира, где личность всегда приносила себя в жертву обществу, так же и нравственность китайская; из этого же отношения вытекает нравственность еврейская - подчинение своего блага благу избранного народа, и нравственность нашего времени, требующая жертвы личности для условного блага большинства. Из этого же отношения к миру вытекает нравственность большинства женщин, жертвующих всею своею личностью для блага семьи и главное - детей.
Из третьего, христианского, отношения к миру, состоящего в признании человеком себя орудием высшей воли для исполнения ее целей, вытекают и соответствующие этому пониманию жизни нравственные учения, уясняющие зависимость человека от высшей воли и определяющие требования этой воли. Из этого отношения человека к миру вытекают все высшие известные человечеству нравственные учения: пифагорейское, стоическое, буддийское, браминское, таосийское [даосское.] в их высшем проявлении и христианское в его настоящем смысле, требующие отречения от личной воли и от блага не только личного, но и семейного, и общественного во имя исполнения открытой нам в нашем сознании воли того, кто послал нас в жизнь. Из этого другого или третьего отношения к бесконечному миру или началу его вытекает действительная, нелицемерная нравственность каждого человека, несмотря на то, что он номинально исповедует или проповедует как нравственность, или чем хочет казаться.
Так что человек, признающий сущность своего отношения к миру в приобретении для себя наибольшего блага, сколько бы он ни говорил о том, что он считает нравственным жить для семьи, для общества, для государства, для человечества или для исполнения воли Бога, может искусно притворяться пред людьми, обманывая их, но действительным мотивом его деятельности будет всегда только благо его личности, так что, когда представится необходимость выбора, он пожертвует не своей личностью для семьи, для государства, для исполнения воли Бога, а всем для себя, потому что, видя смысл своей жизни только во благе своей личности, он не может поступать иначе до тех пор, пока не изменит своего отношения к миру" (Северный вестник, январь 1895).
Толстой не считается и не хочет считаться ни с историей нашей жизни, ни с устройством нашего организма. Он теперь так же безусловно верит в силу человеческого разума и воли, как прежде, в эпоху "Войны и мира", безусловно отрицал ее. Он убеждает нас любить и верить и думает, что мы станем любить и верить, если мы поймем, как преступна и злобна наша жизнь, основанная на стремлении к силе, на преклонении перед силой, на служении силе.
Гамлету казалось порою, что один удар ножа может прекратить все его муки, колебания, сомнения. Толстому кажется, что одно усилие воли и понимания переродит нас и нашу жизнь. Он и говорит поэтому: "Одумайтесь!"
Одуматься всегда хорошо. Возражать против того, что надо одуматься, было бы преступно. Но так ли это спасительно? Во-первых, кто может одуматься? Я допускаю, что у Толстого миллион читателей. Из этого миллиона пусть сто тысяч, то есть десятая часть, пойдут по его стопам. Но что же могут эти сто тысяч сделать с пятьюдесятью веками истории, тысячами миллионами человечества, устройством организма и наследственностью? Толстой не признает наследственности, как Руссо; он думает, что человек родится свободным, чистым и добрым - ну, а как наследственность существует, ну, а как человек родится не свободным, не чистым, не добрым? Ведь это последнее предположение справедливее. Толстой верует, что разум так же легко может справиться с инстинктами, как человек с муравьем. О такой силе разума история не говорит ничего, а говорит как раз обратное. Не было эпохи, когда люди не понимали, что их жизнь страшно далека от совершенства, и не было эпохи, когда это понимание совершенно перерождало бы их.
Когда-то Толстой приравнивал отдельного человека к бесконечно малой величине - дифференциалу, то есть геометрическому непротяженному центру. Это была крайность, но крайность, гораздо более близкая к истине, чем та, в которую он впал теперь. "Дифференциал" истории превратился в титана, свободно двигающего горами... Когда-то Толстой всем существом своим защищал теорию исторической необходимости. Теперь, вместо необходимости, перед нами всевозрождающая сила любви, веры, понимания. Человек, дойдя до бездонной пропасти, в испуге поворачивает в сторону, прямо противоположную, и думает, что теперь нашел истинный путь? А вдруг и там пропасть еще глубже, еще мрачнее...
Встаньте, повторяю, на точку зрения возможности и невозможности, потому что, нет-нет, на нее становится сам Толстой. Любовь - выше, чище, могущественнее денег. Это несомненно. Но можно ли было помочь любовью семнадцати миллионам голодающих? Безбрачие, учит Толстой в "Крейцеровой сонате", выше брака. Зачем же в "Послесловии" он говорит: "Могий вместити да вместит", и только? Если все дело в том, чтобы вместил могий вместить, то учение превращается в обыкновенную проповедь морали, спасительность которой относительна.
В проповеди Толстого есть одна сторона, к которой нельзя не отнестись с полным уважением и любовью. Никто так резко, как он, не выставлял еще противоречий нашей жизни. Но как избавиться от этих противоречий? Разрубить ли гордиев узел или развязать его? Разрубить- лучше, приятнее, честнее, но это невозможно. А раз невозможно, то...
Жить, как живется? - спросит читатель.
Такой вывод делает и сам Л. Толстой. Но этот вывод совершенно несправедлив.
Говорить, что необходимо признавать прошлое и считаться с условиями истории, ее традициями, привычками и устройством организма, злом и добром нашей жизни, нашими страстями и инстинктами - не значит проповедовать квиетизм. Кроме многих грехов у человека есть и еще один, неискупимый - грех самонадеянности.
Это грех всякого безусловного нравственного учения.
Я не буду останавливаться на многочисленных противоречиях в учении графа Толстого и лишь упомяну о некоторых самых важных и бросающихся в глаза. Возьмите его учение о женщинах. В 1884 году он писал например: "Идеальная женщина, по мне, будет та, которая, усвоив высшее миросозерцание своего времени, отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному в нее призванию - родит, выкормит и воспитает наибольшее количество детей, способных работать для людей, по усвоенному ею миросозерцанию..." Итак, рожать, как можно больше рожать. Перечтите теперь "Крейцерову сонату". Смысл ее совершенно ясен; выходит, что самое лучшее совсем не рожать, и идеальной женщиной оказывается уже не та, которая отдается своему непреодолимо в нее вложенному призванию, а та, которая это самое призвание уничтожит или разрушит в себе.
Противоречие это самое любопытное именно потому, что тут речь идет о жизни и смерти. Чего, собственно, хочет Толстой - жизни ли для человечества или смерти? Положа руку на сердце - я этого не знаю и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь это знал и мог без колебания ответить на поставленный вопрос. Проповедуя упорно трудовую жизнь, физическую работу, любовь, Толстой, по-видимому, проповедует жизнь и верит, что счастливое существование человека на земле не только возможно, но и необходимо; он ставит каждому ясную и определенную цель: нравственное усовершенствование; он пишет страстные страницы в защиту того, что хорошая христианская жизнь легче, чем та, которую мы ведем. После этого появляется "Крейцерова соната", и в Ясную Поляну летят десятки и сотни вопросов: "Что лучше: жить или умирать?" "Крейцерова соната" всеми без колебаний была признана за проповедь смерти. В "Послесловии" Толстой идет на компромисс и говорит, что безбрачие есть идеал, вполне неосуществимый, как и все идеалы. Раньше ничего подобного Толстой никогда не высказывал и всегда смотрел на свое учение как на такое, которое может быть осуществлено полностью и даже немедленно.
Такие противоречия меня нисколько не удивляют; удивительно, если бы их не было. В начале 60-х годов Толстой недоумевал, кому у кого учиться - нам ли у народа или народу у нас, и защищал и то, и другое мнение; в "Войне и мире" он, низведя личность человека до дифференциала истории, вместе с тем проповедует личное и семейное счастье как лучшее из всего и, в сущности, как художник впадает в еще более резкое противоречие с собой как мыслителем; уделяя радостям и страданиям своих "дифференциалов" столько блестящих страниц, он так успевает заинтересовать ими читателя, что этот последний очень грустит, когда один "дифференциал" умирает, или радуется, когда другая "дифференциалка" выходит замуж. На почве философии "Войны и мира" может быть создана лишь свифтовская сатира или comedie de la vie humaine [комедия человеческой жизни (фр.).]. Но граф Толстой так серьезно копается в душах своих "дифференциалов", что эти души приобретают несоизмеримую важность.
Утверждали некогда, что граф Толстой - великий художник и плохой мыслитель. Это совершенно несправедливо: как мыслитель граф Толстой величина крупная. Он блестящий диалектик, его мысли всегда оригинальны, и глубокое его громадное образование несомненно. Его противоречия не те, которые то и дело встречаются у человека, плохо думающего; а противоречия живого человеческого сердца, руководимого, однако, болезненно скептическим умом.
Существуют формулы в химии, в нравственности, в общественной жизни. Существуют люди, для которых вся жизнь есть формула, хотя бы вроде: блажен, кто смолоду был молод. Для этих людей формула необходима, как пища, питье и одежда. Она указывает им, что сказать, как ступить, когда сесть, когда улыбнуться и даже - как любить; а главное, она указывает, как жить, не мучаясь ни нравственными, ни иными противоречиями. Формула спасительна: руководясь ею, человек может быть спокойным и неунывающим. Он знает, что родителей надо любить, Бога бояться, начальству повиноваться беспрекословно, в обществе держать себя весело; знает, что не нами мир начался и не нами этот мир кончится. Формула играет для него ту же роль, что рельсы для локомотива: и ехать легко, и в сторону никогда никуда свернуть невозможно. С формулой тепло, как в шубе или у печки, весело, как за стаканом вина, чувствуешь себя легко и приятно, как в дружеской компании.
Но никогда ни одна формула не могла подчинить себе Толстого. Он отбросил формулу личного и семейного счастья, формулу воспринятого учения; он ищет истины, как Лир искал покоя в ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сделать безумными всех. Тяжело, мучительно жить без формулы. Вы, имея миллион денег и всемирную славу, знаете, что сделать по формуле; но без нее, без этой спасительной няни, убаюкивающей и успокаивающей во сне,- что делать вам? Законно ли мое счастье? Не преступна ли моя жизнь? Не вредны ли мои дела? Ни комфорт, ни любовь, ни уважение не дают покоя ищущей душе. Судьба Толстого - судьба Агасфера. Таинственный голос ежеминутно слышится ему и говорит: иди... ищи... иди... ищи... Он идет и ищет. Идет в великолепные салоны и находит там Борисов Друбецких, Вронских, Карениных; идет в поместья и находит там Ростовых, Нехлюдовых, Болконских; идет "к ним", в народ, к Поликушкам, героям Севастополя... А голос не умолкает ни на минуту, и прежние таинственные слова - "иди... ищи... иди... ищи..." - слышатся постоянно. Путник устал; он видит, что дорога бесконечна, что ее черная лента, как былинная змея норманнов, обвивает весь мир, что в ее громадном кольце нельзя найти начала, исходной точки, что сама жизнь - это поток, несущийся в пропасть, - он хочет отдохнуть, забыться, хочет убить себя. Но надо идти... Запыленный, измученный, он поднимается опять, с ужасом вглядываясь во все ту же роковую загадку бытия...
Перед нами грандиозная картина вечного беспокойного искания... По легенде Агасфер попадает наконец в Иерусалим в ту роковую минуту, когда Сила предавала распятию и смерти Любовь... Агасфер вместе с ликующей рабской толпой идет по пыльной раскаленной улице, взбирается на Голгофу и вдруг чувствует, что на него упал кроткий, страдальческий взгляд, полный милосердия, сострадания, жалости. Это что-то новое, это уже не прежний повелительный голос: иди-ищи... Этот взгляд обещает отраду и надежду... "И Христос,- заканчивает легенда,- возложил на Агасфера крест свой..." На Голгофе Агасфер остановился и впервые почувствовал мир в душе, этой измученной, надломленной душе...
Такова история Толстого. От него требуют каких-то формул, упрекают его за противоречия. Он не может дать формулы: он - вечное искание, частичка того же потока, который мы зовем жизнью. Разве этот поток может остановиться?..
До 1880 года, и тем, что он написал после, пролегла глубокая пропасть. Но все это написано одним человеком, и многое из того, что поражало и казалось совершенно новым в произведениях позднего Толстого, уже существовало в ранних его сочинениях. Даже в самых первых мы видим поиск рационального смысла жизни; веру в могущество здравого смысла и в собственный разум; презрение к современной цивилизации с ее «искусственным» умножением потребностей; глубоко укоренившееся неуважение к действиям и установлениям государства и общества; великолепное пренебрежение к общепринятым мнениям, как и к «хорошему тону» в науке и литературе; ярко выраженную тенденцию поучать. Но в ранних вещах это было рассыпано и не связано; после же его произошедшего в конце 1870-х гг. «обращения» все было объединено в последовательную доктрину, в учение с догматически разработанными деталями – толстовство . Это учение удивило и отпугнуло многих прежних последователей Толстого. До 1880 г. он если куда и принадлежал, то скорее к консервативному лагерю, а теперь же примкнул к противоположному.
Отец Андрей Ткачев о Льве Толстом
Толстой всегда в основе своей был рационалистом, мыслителем, ставившим разум превыше всех других свойств человеческой души. Но в те времена, когда он писал свои великие романы, его рационализм несколько померк. Философия Войны и мира и Анны Карениной («Человек должен жить так, чтобы доставлять себе и своей семье самое лучшее») – это капитуляция его рационализма перед присущей жизни иррациональностью. Поиски смысла жизни тогда были оставлены. Смыслом жизни казалась сама Жизнь. Величайшая мудрость для Толстого тех лет заключалась в том, чтобы принять не мудрствуя свое место в жизни и мужественно переносить ее невзгоды. Но уже в последней части Анны Карениной ощущается растущая тревога. Именно тогда, когда Толстой ее писал (1876), начался кризис, из которого он вышел пророком нового религиозного и этического учения.
Это учение, толстовство – рационализированное христианство, с которого содраны все традиции и всякий мистицизм. Он отверг личное бессмертие и сосредоточился исключительно на нравственном учении Евангелия. Из нравственного учения Христа в качестве основополагающего принципа, из которого следует все остальное, взяты слова «Не противься злу». Он отверг авторитет Церкви, поддерживающей действия государства, и осудил государство, поддерживающее насилие и принуждение. И Церковь, и государство безнравственны, как и все другие формы организованного принуждения. Осуждение Толстым всех существующих форм принуждения позволяет классифицировать политическую сторону толстовства как анархизм . Осуждение это распространяется на все без исключения государства, и Толстой испытывал к демократическим государствам Запада не больше почтения, чем к русскому самодержавию. Но на практике его анархизм был направлен своим острием против существующего в России режима. Он допускал, что конституция может быть меньшим злом, чем самодержавие (он рекомендовал конституцию в статье Молодой царь , написанной после восшествия на престол Николая II) и нередко обрушивался на те же институты, что радикалы и революционеры.
Портрет Льва Николаевича Толстого. Художник И. Репин, 1901
Отношение его к активным революционерам было двойственным. Он был принципиально против насилия и, соответственно, против политических убийств. Но была разница в его отношении к революционному террору и правительственным репрессиям. Убийство Александра II революционерами в 1881 г. не оставило его безучастным, но он написал письмо с протестом против казни убийц. В сущности Толстой стал великой силой на стороне революции, и революционеры признавали это, со всей почтительностью относясь к «великому старику», хотя и не принимали учения о «непротивлении злу» и презирали толстовцев. Согласие Толстого с социалистами усилило его собственный коммунизм – осуждение частной собственности, особенно земельной. Методы, которые он предлагал для уничтожения зла, были иными (в частности, добровольное отречение от всяких денег и земли), но в своей негативной части его учение в этом вопросе совпадало с социализмом.
Обращение Толстого было в значительной степени реакцией его глубинного рационализма на тот иррационализм, в который он впал в шестидесятые-семидесятые годы. Его метафизику можно сформулировать как отождествление принципа жизни с Разумом. Он, как Сократ , смело отождествляет абсолютное благо с абсолютным знанием. Его любимая фраза – «Разум, т. е. Благо», и в его учении она занимает такое же место, как у Спинозы Deus sive Natura (Бог или [то есть] природа – лат. ). Знание – необходимое основание блага, это знание присуще каждому человеку. Но оно омрачено и задавлено дурным туманом цивилизации и мудрствований. Нужно слушаться только внутреннего голоса своей совести (которую Толстой склонен был отождествить с кантовским Практическим Разумом) и не позволять фальшивым огням человеческого мудрствования (а тут подразумевалась вся цивилизация – искусство, наука, общественные традиции, законы и исторические догматы теологической религии) – сбить тебя с пути.
И все-таки, несмотря на весь свой рационализм, толстовская религия остается в некотором смысле мистической. Правда, он отверг мистицизм, принятый Церковью, отказался принять Бога как личность и с насмешкой говорил о Таинствах (что для каждого верующего является страшнейшим богохульством). И тем не менее, высшим, окончательным авторитетом (как и в каждом случае метафизического рационализма) для него является иррациональная человеческая «совесть». Он сделал все, что мог, чтобы отождествить ее в теории с Разумом. Но мистический daimonion возвращался все снова и снова, и во всех толстовских важнейших поздних сочинениях его «обращение» описывается как переживание мистическое по своей сути. Мистическое – потому что личное и единственное. Это результат тайного откровения, быть может, подготовленного предварительным умственным развитием, но по своей сути, как и всякое мистическое переживание, непередаваемого. У Толстого, как это описано в Исповеди , оно было подготовлено всей предыдущей умственной жизнью. Но все чисто рациональные решения основного вопроса оказались неудовлетворительными, и окончательное разрешение изображается как ряд мистических переживаний, как повторяющиеся вспышки внутреннего света. Цивилизованный человек живет в состоянии несомненного греха. Вопросы о смысле и оправдании возникают у него помимо его воли – из-за страха смерти – и ответ приходит, как луч внутреннего света; таков процесс, который Толстой описывал неоднократно – в Исповеди , в Смерти Ивана Ильича , в Воспоминаниях , в Записках сумасшедшего , в Хозяине и работнике .
Из этого необходимо следует, что истину нельзя проповедовать, что каждый должен открыть ее для себя. Это – учение Исповеди , где цель – не продемонстрировать, но рассказать и «заразить». Однако позднее, когда первоначальный импульс разросся, Толстой стал вести проповедь в логических формах. Сам он никогда не верил в действенность проповеди. Это его ученики, совершенно иного склада люди, превратили толстовство в учение-проповедь и подтолкнули к этому и самого Толстого. В окончательном виде толстовство почти лишилось мистического элемента, и его религия превратилась в эвдемонистическую доктрину – доктрину, основанную на поисках счастья. Человек должен быть добр, потому что это для него единственный способ стать счастливым. В романе Воскресение , написанном тогда, когда толстовское учение уже выкристаллизовалось и стало догматическим, мистический мотив отсутствует и возрождение Нехлюдова – простое приспособление жизни к нравственному закону, с целью освободиться от неприятных реакций собственной совести.
В конце концов Толстой пришел к мысли, что нравственный закон, действующий через посредство совести, является законом в строго научном смысле, подобно закону тяготения или другим законам природы. Это сильно выражено в заимствованной у буддистов идее Кармы, глубокое отличие которой от христианства в том, что Карма действует механически, без всякого вмешательства Божественной благодати, и является непременным следствием греха. Нравственность, в окончательно кристаллизовавшемся толстовстве, есть искусство избегать Кармы или приспособиться к ней. Нравственность Толстого есть нравственность счастья, а также чистоты, но не сострадания. Любовь к Богу, т. е. к нравственному закону в себе, есть первая и единственная добродетель, а милосердие и любовь к ближнему – только следствия. Для святого от толстовства милосердие, т. е. собственно чувство любви, необязательно. Он должен действовать как если бы он любил своих ближних, и это будет означать, что он любит Бога и будет счастлив. Таким образом, толстовство прямо противоположно учению Достоевского . Для Достоевского милосердие, любовь к людям, жалость – высшая добродетель и Бог открывается людям только через жалость и милосердие. Религия Толстого абсолютно эгоистична. В ней нет Бога, кроме нравственного закона внутри человека. Цель добрых дел – нравственный покой. Это помогает нам понять, почему Толстого обвиняли в эпикурействе , люциферизме и в безмерной гордыне, ибо не существует ничего вне Толстого, чему бы он поклонялся.
Толстой всегда был великим рационалистом и его рационализм нашел удовлетворение в великолепно сконструированной системе его религии. Но жив был и иррациональный Толстой под отвердевшей коркой кристаллизовавшейся догмы. Дневники Толстого открывают нам, как трудно ему было жить согласно своему идеалу нравственного счастья. Не считая первых лет, когда он был увлечен первичным мистическим импульсом своего обращения, он никогда не был счастлив в том смысле, в каком хотел. Частично это происходило от того, что жить согласно своей проповеди оказалось для него невозможным, и от того, что семья оказывала его новым идеям постоянное и упрямое сопротивление. Но кроме всего этого в нем всегда жил ветхий Адам . Плотские желания обуревали его до глубокой старости; и никогда его не покидало желание выйти за рамки – желание, которое породило Войну и мир , желание полноты жизни со всеми ее радостями и красотой. Проблески этого мы ловим во всех его писаниях, но этих проблесков мало, потому что он подчинял себя строжайшей дисциплине. Однако у нас есть портрет Толстого в старости, где иррациональный, полнокровный человек предстает перед нами во всей осязаемой жизненности – горьковские Воспоминания о Толстом , гениальный портрет, достойный оригинала.