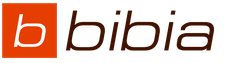Юрген Хабермас (нем. Jrgen Habermas; 18 июня 1929, Дюссельдорф) - немецкий философ и социолог. Профессор во Франкфурте-на-Майне (с 1964 года). Директор (наряду с К. Вайцзеккером) Института по исследованию условий жизни научно-технического мира Общества Макса Планка в Штарнберге (1970-1981). Считается представителем франкфуртской школы. Один из наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей второй половины XX века, создатель концепций коммуникативного действия и этики дискурса.
Биография
Юрген Хабермас родился в Дюссельдорфе, но вырос в маленьком городке Гуммерсбах, где его отец, Эрнст Хабермас, был управляющим местного отделения торгово-промышленной палаты. Юрген - инвалид по рождению, родился с волчьей пастью, и общение с людьми для него долго было необычайно трудным - именно это впоследствии сыграло большую роль в его интересе к философии коммуникации. Но две тяжёлые корректирующие операции ещё в детстве позволили ему общаться с людьми. Отец Юргена был членом НСДАП, а Юрген cтал членом гитлерюгенда.
Учился в университетах Гёттингена (1949-1950), Цюриха (1950-1951) и Бонна (1951-1954). Деятельность философа и социолога начал под руководством Э. Ротхакера, у которого Хабермас учился вместе с Апелем - взаимовлияние Хабермаса и Апеля очень велико. Первая докторская диссертация, выполненная под руководством Э. Ротхакера, была посвящена философии Шеллинга. По окончании аспирантуры Юрген был ассистентом Теодора Адорно. В 1955 году Юрген обвенчался с Утой Вессельгофт. В браке было трое детей. Тильманн Хабермас с 2002 работает профессором психоанализа в Франкфуртском университете, а Ребекка Хабермас с 2000 - профессором истории в Геттингенском университете. Юрген преподавал в Гейдельбергском университете. В 1964 году занял кафедру Макса Хоркхаймера во Франкфурте-на-Майне. Выдвинулся в наиболее видные представители «второго поколения» теоретиков Франкфуртской школы. В середине 1960-х годов стал идеологом студенческого движения. Но в дни выступлений студентов в 1968 году отмежевался от радикального крыла студенчества, обвинив его руководителей в «левом фашизме». С конца 1960-х годов занимал позиции умеренного социал-демократа - последователя Вилли Брандта.
В 1970-х годах осуществлял программу исследований, соответствовавшую общему направлению Социал-демократической партии Германии. Её Хабермас стремился корректировать в духе идеалов Просвещения: эмансипации и равенства.
Проведя десятилетие в Институте имени Макса Планка по исследованию условий жизни научно-технического мира в Штарнберге неподалёку от Мюнхена, из-за расхождения во мнениях с коллегами в 1981 году вернулся во Франкфурт. С 1983 года до ухода на пенсию в 1994 году занимал кафедру философии в университете. После ухода не пенсию из-за правения социал-демократов и неизменности его политических воззрений оказался единомышленником и серым кардиналом европейских левых, вследствие собственного правения занявших прежнюю политическую нишу СДПГ.
Воззрения
В наше время его называют «самым главным философом Германии», наследником Иммануила Канта, ярости Карла Маркса, понимания реальности Фрейда, чёткости философов американского прагматизма.
Как философ, Хабермас связал понятие разума с подходами Маркса, Вебера и Т. Парсонса. Он отрицает философский априоризм и фокусируется, на разработке постметафизического философского проекта. То есть, философское понятие разума не является независимым от эмпирических наблюдений и должно постоянно подтверждать себя в диалоге с конкретными научными дисциплинами. Диалог философии с частными науками Хабермас иллюстрирует на примере психоанализа («Познание и интерес»), теории социальной эволюции (К реконструкции исторического материализма, Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, 1976), теории общества (Теория коммуникативного действия), теории права (Фактичность и значимость, Faktizitt und Geltung, 1992). В отличие от Маркса, Хабермас разграничивает философию истории и теорию социальной эволюции, что сближает его с Ж.Пиаже, Т. Парсонсом и Н. Луманом. Одной из главных идей Хабермаса является убеждение, что в современных условиях теория познания может существовать только как социальная теория.
Юрген Хабермас, самый знаменитый социальный философ и социолог современной Германии, один из наиболее ярких представителей «Франкфуртской школы». Родился в Дюссельдорфе 18 июня 1929. Изучал философию, историю, психологию, литературу и экономику в университетах Геттингена, Цюриха и Бонна. В 1954 защитил под руководством Э.Ротхакера докторскую диссертацию о философии Шеллинга. С 1956 по 1959 - ассистент в Институте социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, руководимом М.Хоркхаймером, а в 1980-1983 - директор этого института. С 1964 по 1971 (и с 1983) - профессор философии и социологии Франкфуртского университета. С 1971 по 1980 - директор Института Макса Планка (в Штарнберге). Основные сочинения: "Структурное изменение общественности" (1962), "Познание и интерес" (1968), "Техника и наука как идеология" (1968), "Теория общества или социальная технология" (совм. с Н.Луманом, 1971), "Теория общества или социальные технологии?" (1973), "Проблемы легитимации в условиях позднего капитализма" (1973), "К реконструкции исторического материализма" (1976), "Что такое универсальная прагматика" (1976), "Теория коммуникативного действования" (в 2 томах, 1981), "Моральное сознание и коммуникативное действование" (1983), "Ранние исследования и дополнения к теории коммуникативного действования (1984), "Философский дискурс модерна" (1985), "Мораль и коммуникация" (1986), "Фактичность и значимость" (1992), "Разъяснение к этике дискурса" (1994) и др.
Однако, в центре философских размышлений Хабермаса - понятие коммуникативного разума. Первым шагом в развитии этого понятия была книга Познание и интерес (Erkenntnis und Interesse, 1968). В этой работе Ю.Хабермас ищет модель критического диалога, с помощью которой надеется заново осмыслить притязания трансцендентальной философии, увязав последнюю с инструментарием социальных наук. «Сознание», выступавшее в традиционной европейской онтологии в качестве верховного судьи, лишается теперь своих прерогатив, и его место занимает универсальное коммуникативное сообщество. При этом сама коммуникация не выступает в качестве высшей и последней инстанции, поскольку ее результаты находятся в зависимости от общественных условий и на них может сказываться влияние отношений господства и подчинения. Поэтому критике надлежит еще раз проанализировать общество, чтобы отличить свободную коммуникацию от коммуникации, находящейся под воздействием отношений господства - подчинения. В этом контексте образцами для Ю.Хабермаса выступают Маркс и Фрейд, сделавшие принципиально важный шаг на пути критического обновления понятия разума. Новое понятие разума критично (но связано с критикой общества, а не только с "критикой разума", как у Канта) и имеет всеобщий характер (будучи нормой процедур, выполняемых потенциально универсальным коммуникативным сообществом, а не актуальной очевидностью всеобщего акта «я мыслю», как у Декарта или Канта).
Начиная с 1971 (а именно с выходом небольшой работы Предварительные размышления по теории коммуникативной компетенции, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz) Ю.Хабермас стремится связать коммуникативное понятие разума с «лингвистическим поворотом», совершенным англо-американской аналитической философией. Обращаясь к соответствующим исследованиям К.О. Апеля (и в тесном сотрудничестве с ним), Хабермас приходит к разработке понятия разума, опирающегося на теорию языковых актов. Эта теория обстоятельно излагается в двухтомном труде Теория коммуникативного действия (Theorie des kommunikativen Handelns, 1981).
Своеобразие философской теории Юргена Хабермаса заключается в том, что он связал понятие разума с эмпирической теорией социальной эволюции, разработанной Марксом, Вебером и Парсонсом. Он отвергает философский априоризм и сосредоточивает усилия на разработке постметафизического «философского проекта». Это означает, что философское понятие разума не является независимым от эмпирических наблюдений и должно постоянно подтверждать себя в диалоге с конкретными научными дисциплинами, отражающими факт функциональной дифференциации общества. Диалог философии с частными науками Ю.Хабермас иллюстрирует то на примере психоанализа (Познание и интерес), то на примере теории социальной эволюции (К реконструкции исторического материализма, Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, 1976), то на примере теории общества (Теория коммуникативного действия), то на примере теории права (Фактичность и значимость, Faktizitt und Geltung, 1992). Теория познания возможна лишь в качестве теории общества - мысль, проходящая через все творчество Хабермаса. В противовес Марксу Хабермас четко различает философию истории и теорию общественной эволюции (сближаясь в этом пункте с Ж.Пиаже, Т.Парсонсом и Н.Луманом).
Основной мотив критической теории своих учителей, Хоркхаймера и Адорно, Хабермас с самого начала стремился дополнить теорией демократии. Благодаря этому дополнению Франкфуртская школа была выведена из тупика негативизма и получила мощный импульс для дальнейшего развития. Осмысляя структурную трансформацию, переживаемую обществом, Хабермас еще в начале 1960-х годов выдвинул понятие, которое в конце того же десятилетия сделалось ключевым для целого поколения революционной студенческой молодежи. Это понятие - публичность, общественность (ffentlichkeit). Другую важную тему хабермасовских исследований образует взаимосвязь права и демократии. Эта тема обсуждается Хабермасом в его книге Фактичность и значимость, где развитое в предыдущих работах коммуникативное понятие разума применяется к классической теории суверенитета. Стержнем предлагаемой им теории права является полемика с восходящим к К.Шмитту (1888-1985) разделением воли и разума (voluntas и ratio). Согласно Хабермасу, формирование национального суверенитета следует понимать как рациональный процесс, включающий в себя выработку общественной воли, которая вне этой рациональной процедуры носила бы анархический характер.
Формулировки и понятия Хабермаса оказали заметное влияние на современную мысль. Выдвинутые им в 1960-е годы понятия эмансипации, теоретико-познавательного интереса, коммуникации, дискурса в 1970-е годы были развиты в концепции «кризиса легитимности позднего капитализма», а в 1980-е годы дополнены терминами и афоризмами, получившими распространение в языке не только ученых, но и широкой публики («колонизация жизненного мира», «новая непрозрачность» и др.).
Полемика Хабермаса с «историческим ревизионизмом» консервативных немецких историков дала толчок дебатам, вышедшим далеко за пределы академического «спора историков». Продуктивное восприятие идей Хабермаса ощутимо во многих странах, особенно в США, где его влияние на молодых радикально настроенных интеллектуалов едва ли не сильнее, чем в ФРГ.
Юрген Хабермас был членом гитлерюгенда и осенью 1944 года был направлен на линию Зигфрида. Учился в университетах Геттингена (1949-1950), Цюриха (1950-1951) и Бонна (1951-1954). Деятельность социолога и философа начинал как последователь Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно. В 1965 занял кафедру Макса Хоркхаймера во Франкфурте-на-Майне. Преподавал в Гейдельбергском университете. Выдвинулся в наиболее видные представители «второго поколения» теоретиков Франкфуртской школы. В середине 1960-х годов стал идеологом студенческого движения. Но в дни выступлений студентов в 1968 году отмежевался от радикального крыла студенчества, обвинив его руководителей в «левом фашизме». С конца 1960-х годов занимал позиции умеренного социал-демократа.
В 1970-х годах осуществлял программу исследований, соответствовавшую общему направлению социал-демократической партии Германии. Её Ю.Хабермас стремился корректировать в духе идеалов просвещения: эмансипации и равенства.
Проведя десятилетие в Институте имени Макса Планка по исследованию условий жизни научно-технического мира в Штарнберге неподалёку от Мюнхена, из-за расхождения во мнениях с коллегами в 1981 году вернулся во Франкфурт. С 1983 года до ухода на пенсию в 1994 году занимал кафедру философии в университете.
Как мы видим, по мере своего творческого развития Хабермас все дальше удалялся от учения Маркса и от идей философского марксизма. Своеобразие философской теории Хабермаса заключается в том, что он связал понятие разума с эмпирической теорией социальной эволюции, разработанной Марксом, Вебером и Парсонсом. Теория познания возможна лишь в качестве теории общества - мысль, проходящая через все творчество Хабермаса. В противовес Марксу Хабермас четко различает философию истории и теорию общественной эволюции. В центре философских работ Хабермаса - «Теория коммуникативного действия», которая подробно рассмотрена в следующем параграфе.
Юрген Хабермас различает инструментальную и коммуникативную рациональности. Понятие инструментальной рациональности заимствуется у Макса Вебера.
Следует отметить, что при этом типология действия Хабермаса испытала заметную трансформацию. Так, в работах 60-х годов главной парой понятий были для Хабермаса названные инструментальный и коммуникативный типы действия. Впоследствии он, пользуясь уже несколько иными критериями различения, выделил следующие четыре типа: стратегическое, норморегулирующее, экспрессивное (драматургическое) и коммуникативное действие. При этом стратегическое действие включает в себя инструментальное и "собственно стратегическое" действие. Ориентация на успех (или необходимость считаться с неуспехом), на использование средств, отвечающих поставленным целям, остались его общими опознавательными знаками. Но теперь Хабермас пришел к выводу, что чисто инструментальное действие отвечает такому подходу к человеческому действию, когда предметные, инструментальные, прагматические критерии выдвигаются на первый план, а социальные контекст и координаты как бы выносятся за скобки. Что же касается стратегического действия в собственном (узком) смысле, то оно как раз выдвигает в центр социальное взаимодействие людей, однако смотрит на них с точки зрения эффективности действия, процессов решения и рационального выбора. В коммуникативном действии, как и прежде, акцентировалась нацеленность "актеров", действующих лиц, прежде всего и именно на взаимопонимание, поиски консенсуса, преодоление разногласий.
Следующим важным шагом развития концепции Хабермаса (в работах второй половины 70-х годов, в "Теории коммуникативного действия" и в последующих произведениях) явилось исследование типов действия в связи с соответствующими им типами рациональности. Аспекты рациональности, которые проанализировал Хабермас, позволили уточнить саму типологию действия. Нет ничего удивительного в том, что это исследование также стало творческим продолжением учения Макса Вебера. Ибо Вебер, по глубокому убеждению Хабермаса, перешел от абстрактного классического учения о разуме и типах рациональности к их толкованию, в большей мере отвечающему современным теоретическим и методологическим требованиям. Не следует, впрочем, преувеличивать роль веберовских идей в формировании и изменении учения Хабермаса, который лишь отталкивается от текстов Вебера, но делает из них множество оригинальных выводов. Прежде всего Хабермас значительно яснее и последовательнее, чем Вебер, порывает с некоторыми фундаментальными принципами и традициями эпохи "модерна" (нового времени), философии и культуры Просвещения. Суммируем основные подходы хабермасовской теории коммуникативной рациональности.
- 1. Хабермас осуществляет - конечно, опираясь на концепцию "рационализации" Вебера (устранение религиозно-мифологических картин мира) - "десубстанциализацию" и демифологизацию разума, прежде всего в борьбе с идеалистическими концепциями гегелевского типа.
- 2. Критически преодолеваются субъективистские тенденции трансценденталистской философии, которая в оправданной борьбе против субстанциалистской метафизики перевела учение о разуме на уровень философии сознания. В борьбе с заблуждениями философии сознания Хабермас видит свою постоянную задачу.
- 3. В борьбе с субстанциализмом и трансценденталистским субъективизмом Хабермас, однако, не готов пожертвовать завоеваниями традиционного рационализма. Речь идет, скорее, о спасении разума.
- 4. Хабермас, в частности, принимает в расчет любые подвижки традиционного рационализма как в сторону разработки теории действия, активности и суверенности действующих субъектов - личностей, так и в сторону исследования интеракции, интерсубъективности, т.е. познавательных, нравственно-практических, социально-исторических аспектов человеческого взаимодействия. Однако он полагает, что всем этим темам, аспектам, измерениям философия до сих пор уделяла мало внимания.
- 5. Свою цель Хабермас видит в переплетении "деятельностного" подхода, в исследовании разума как конкретной рациональности действия, в изучении, в частности, интерсубъективных, коммуникативных измерений действия.
Комплексные типы действия, рассуждает Хабермас, можно рассматривать в свете следующих аспектов рациональности:
- · в аспекте инструментальной рациональности (рационального разрешения технических задач, в качестве конструкции эффективных средств, которые зависят от эмпирического знания);
- · в аспекте стратегической рациональности (последовательного решения в пользу тех или иных возможностей выбора - при данных предпочтениях и максимах решения и с учетом решения рациональных контрагентов);
- · в аспекте нормативной рациональности (рационального решения практических задач в рамках морали, руководящейся принципами)";
- · в аспекте рациональности "экспрессивного действия". Иными словами, понятие рациональности уточняется соответственно типологии действия.
Хабермас предлагает такую общую схему связи "чистых" типов действия и типов рациональности:
Существенным отличием концепции рациональности Хабермаса является то, что в нее органически включаются и синтезируются:
- - отношение действующего лица к миру;
- - отношение его к другим людям, в частности, такой важный фактор как процессы "говорения", речи, высказывания тех или иных языковых предложений и выслушивания контрагентов действия.
А отсюда Хабермас делает вывод: понятие коммуникативного действия требует, чтобы действующие лица были рассмотрены, как говорящие и слушающие субъекты, которые связаны какими-либо отношениями с "объективным, социальным или субъективным миром", а одновременно выдвигают определенные притязания на значимость того, о чем они говорят, думают, в чем они убеждены. Поэтому отношение отдельных субъектов к миру всегда опосредованы и релятивированы возможностями коммуникации с другими людьми, а также их спорами и способностью прийти к согласию. При этом действующее лицо может выдвигать такие претензии: его высказывание истинно (wahr), оно правильно (richtig - легитимно в свете определенного нормативного контекста) или правдоподобно (wahrhaft - когда намерение говорящего адекватно выражено в высказывании).
Эти притязания на значимость (и соответствующие процессы их признания - не признания) выдвигаются и реализуются в процессе дискурса. Распространенное в современной философии понятие дискурса Хабермас тесно связывает именно с коммуникативным действием и поясняет его следующим образом. Дискурс - "приостановка" чисто внешних принуждений к действию, новое обдумывание и аргументирование субъектами действий их мотивов, намерений, ожиданий, т.е. собственно притязаний, их "проблематизация". Особое значение для Хабермаса имеет то, что дискурс по самому своему смыслу противоречит модели господства - принуждения, кроме "принуждения" к совершенной убеждающей аргументации.
Противники теории коммуникативного действия Хабермаса неоднократно упрекали его в том, что он конструирует некую идеальную ситуацию направленного на консенсус, "убеждающего", ненасильственного действия и идеального же "мягкого", аргументирующего противодействия. Апеллируя и к жестокой человеческой истории, и к современной эпохе, не склоняющей к благодушию, критики настойчиво повторяют, что хабермасовская теория бесконечно далека от "иррациональной" реальности. Хабермас, впрочем, и не думает отрицать, что он (в духе Вебера) исследует "чистые", т.е. идеальные типы действия, и прежде всего тип коммуникативного действия.
Вместе с тем он исходит из того, что выделенным и исследуемым им коммуникативному действию и коммуникативной рациональности соответствуют вполне реальные особенности, измерения, аспекты действий и взаимодействий индивидов в действительной истории. Ведь взаимопонимание, признание, аргументация, консенсус - не только понятия теории. Это неотъемлемые элементы взаимодействия людей. И в какой-то степени - всех тех действиях, которые ведут хотя бы к малейшему согласию индивидов, общественных групп и объединений. При этом если "чисто" стратегическое действие определяется извне, регулируется заведомо данными нормами и санкциями, то суть коммуникативного действия - в необходимости, даже неизбежности для действующих индивидов самим находить и применять рациональные основания, способные убедить других субъектов и склонить их к согласию. Коммуникативных аспектов и измерений в человеческих действиях значительно больше, чем мы думаем, убежден Хабермас. И задача современной мысли заключена в том, чтобы вычленить, как бы высветить их в реальной коммуникации людей, помогая современному человеку пестовать механизмы согласия, консенсуса, убеждения, без которых не может быть нормального демократического процесса.
Хабермаса несправедливо было бы упрекать в том, что он не видит угроз и опасностей современной эпохи. Да и вообще замысел того раздела учения Хабермаса, который он называет "универсальной прагматикой", нацелен на то, чтобы разработать последовательную программу универсальной значимости коммуникативных действий, а одновременно и программу если не предотвращения, то по крайней мере диагностирования и лечения общественной патологии в сфере общественной коммуникации. Такую патологию Хабермас понимает как формы "систематически нарушаемой коммуникации", в которых отражается макросоциологические отношения власти в сфере "микрофизики" власти.
В более общем смысле Хабермас разрабатывает вопрос о патологическом воздействии "системы" (связанной и с капитализмом, и с социализмом, характерной для всей цивилизации системы государства) на все структуры и формы человеческого действия, включая структуры жизненного мира (в коммуникативной повседневной практике, утверждает Хабермас, не существует незнакомых ситуаций, лаже и новые ситуации всплывают из жизненного мира). Его критическая теория общества, далеко ушедшая от традиционных вариантов франкфуртской школы, сосредоточена на теме "колонизации жизненного мира".
Итак, Юрген Хабермас ввел ряд фундаментальных для Теории коммуникативного действия понятий. Воплощением инструментального действия Хабермас считает сферу труда. Это действие упорядочивается согласно правилам, которые основываются на эмпирическом знании. При совершении инструментального действия реализуются - в соответствии с критериями эффективности, контроля над действительностью - определенные цели, осуществляются предсказания, касающиеся последствий данного действия. Под коммуникативным действием Хабермас уже в работах 60-х годов, понимает такое взаимодействие, по крайней мере двух индивидов, которое упорядочивается согласно нормам, принимаемым за обязательные. Если инструментальное действие ориентировано на успех, то коммуникативное действие - на взаимопонимание действующих индивидов, их консенсус. Это согласие относительно ситуации и ожидаемых следствий основано скорее на убеждении, чем на принуждении. Оно предполагает координацию тех усилий людей, которые направлены именно на взаимопонимание.
КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИСКУРС КАК СОГЛАСИЕ ЛЮДЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ
хабермас коммуникативный дискурс массовый
Отношение Хабермаса к Хайдеггеру предельно критичное. Онтологические прозрения Хайдеггера не вызывают у него интереса. Намного более позитивным является отношение Хабермаса к герменевтике Гадамера. Согласно Гадамеру, понимание осуществляется в языковом дискурсе, именно здесь происходит расширение герменевтических горизонтов. Однако гадамеровская герменевтика также не устраивает Хабермаса, прежде всего потому, что она далеко отстоит от критической теории и обособлена от науки.
Отношение Хабермаса к Марксу с годами претерпело много изменений - от восторженного до критического. Маркс рассматривал капитализм в качестве политизированного общества, основанного на общественном труде; социализм же, по Марксу, должен развиваться стабильно благодаря системному управлению. Как в первом, так и во втором случае без внимания остались формы коммуникации людей , но именно они дают ключ к разумному переустройству общества.
Существенные коррективы вносит Хабермас и в программу критической теории Хоркхаймера и Адорно. Он солидаризируется с ними всего лишь в критике так называемого "инструментального разума" , угрожающего узурпировать власть подлинного разума. Однако, разумеется, в качестве изобретателя коммуникативного разума Хабермас не мог принять отрицание Хоркхаймером и Адорно первостепенной философской значимости разума. Ясно, что негативная диалектика Адорно ему также не подходит. На место адорновского эстетического опыта он ставит языковую коммуникативность, а вместе с ней и коммуникативное действие.
Как видим, совсем не просто уяснить основное содержание хабермасовского философствования. Что же является самым главным в его философствовании? Это, как он сам утверждал, понятие коммуникативной рациональности , призванное прояснить основные вопросы этики, теории языка и деятельности, а также понятие разума. Концепция коммуникативной рациональности развита Хабермасом в статье "Предварительные замечания к теории коммуникативной компетенции" и в двухтомнике "Теория коммуникативного действия" .
В своем анализе Хабермас опирается на лингвофилософские исследования американца Наома Хомского и англичан Джона Остина и Джона Сёрла. Хомский проводил различие между языковой компетентностью и осуществлением языка. Лингвистически компетентен тот, кто знает правила языка и может, используя их, образовать сколько угодно предложений. Правила грамматики Хомский считал аналогами аксиом и правил вывода в логике. Остин и Сёрл развили теорию речевых актов, согласно которой высказывания (предложения) имеют практическое значение, ибо их автор принимает на себя некоторую роль спрашивающего, соглашающегося, ставящего задачу и т.д. По Сёрлу, речевые акты содержат в себе правила коммуникации.
Решающая идея Хабермаса состоит в том, что правила речевого действия могут стать темой разговора, дискуссии, одним словом, дискурса . Дискурс - это больше, чем свободный разговор, в котором собеседники не думают о соблюдении правил речевой коммуникации. Дискурс - это диалог, ведущийся с помощью аргументов, позволяющих выявить общезначимое, нормативное в высказываниях. Но если обнаружена нормативность высказываний, то тем самым задана и нормативность поступков. Дискурс обеспечивает коммуникативную компетентность. Вне дискурса последняя отсутствует. Дискурсом является не любой диалог, а достигший известной стадия зрелости. Для характеристики этой стадии Хабермас использует термин Mьndigkeit (мюндихкайт), что в переводе с немецкого означает совершеннолетие. Дискурсом является тот диалог - напомним читателю, что по определению в диалоге может участвовать сколь угодно большое число лиц, - который покинул стадию недостаточного совершенства, инфантильности (т.е. детскости в рационально-лингвистическом смысле).
Примером мюнданного диалога, или дискурса, является беседа психоаналитика с пациентом, излечивающая последнего от недугов. Далеко не всегда усилия психоаналитика достигают успеха; в таком случае участники диалога не выявили причины болезни. Возможно, они известны врачу, но их не удалось довести до сознания больного. Только в том случае, когда участники диалога выработали совместное, да к тому же еще и действенное общее мнение, - налицо дискурс. Темой дискурса являются правила речевых актов (прагматические универсалии), которые в свою очередь конституируют правила поступков и предметных действий.
Дискурс в идеале - это образец, модель выработки коммуникативной компетенции. Конкретные дискурсы могут быть более или менее успешными, не исключены споры, обиды, несогласия (дисконсенсусы). Для Хабермаса важнейшее значение имеет сам факт актуальности дискурса. Именно в нем вырабатываются правила совместного общежития людей, которое Хабермас отнюдь не подвергает, подобно, например, Хайдеггеру, уничижительной критике. Беда людей состоит не в том, что они в обществе, якобы, теряют свою индивидуальность; совместное житие людей может быть более или менее успешным и счастливым, мукой же оно становится только тогда, когда страдает недостаточной коммуникативной зрелостью.
Те общности людей, которые обладают коммуникативной компетентностью, Хабермас подводит под понятие коммуникативной общественности (Цffentlichkeit) . В немецком языке в это слово вкладывается несколько социальных значений: общество, не тайное, а открытое, каждому доступное и понятное, предназначенное для всех граждан (и являющееся в этом смысле гражданским обществом с соответствующей государственностью). Гласность, открытость - это необходимые, но недостаточные условия для конституирования коммуникативно-компетентного общества. Способно ли общество и в какой степени реализовать идеалы дискурса - вот в чем решающий вопрос для всякого общества, стремящегося к лучшему будущему.
Итак, к специфике хабермасовской философии мы подошли с помощью понятий дискурса, мюнданности, (коммуникативной) общественности. Безусловно, к этому следует добавить акцентирование Хабермасом практической функции философии. Дискурс выступает языковой деятельностью, открывающей подступы к науке, искусству, технике и труду. Здесь он проходит свою проверку на истинность.
Все вышеизложенное подводит к желанию уяснить, каким образом сам Хабермас реализует дискурсивность философии в своих статьях, монографиях и выступлениях. Всякий образованный философ не чужд дискурсивной деятельности, но не каждый аргументирует в хабермасовском стиле.
Хабермасовские дискурсы, как правило, разворачиваются в двух масштабах - историческом и топическом. Исторический масштаб требует развертки проводимой тематизации по ступеням реальной истории: Античность - Средневековье - Новое время - Современность - Будущее. Топический (от греч. fqpos - место) масштаб учитывает не глубину, а ширину истории, рядоположенность событий и интерпретаций в определенном историческом срезе, образно выражаясь, перпендикулярном к ходу истории. Хабермасовские "здесь" и "теперь" не имеют дискурсивного смысла вне историко-топического пространства. Его дискурс всегда комплексен , он предполагает философа участником диалога с историей и современностью. Дискурс увязывает воедино более или менее резко отличающиеся друг от друга воззрения, как правило, междисциплинарного типа, преодолевает их фрагментарность.
Хорошим примером, иллюстрирующим стиль хабермасовского философствования, является его анализ понятия общественности. Казалось бы, можно указать философским пальцем на нечто такое, что является общественностью, и этим удовлетвориться. Хабермас действует в ином ключе: он проводит тщательный историко-топический комплексный анализ, привлекает данные самых разнообразных наук, от философии до психологии и социологии. Чем комплексной дискурс, тем он более эффективен, обеспечивает подлинно философское понимание. Дискурс разрушает ложную самоочевидность суждений. Он, к тому же, требует их сопоставления, коррекции и достижения ранее не существовавшей согласованности. Благодаря своей способности приходить к согласию друг с другом, люди добиваются консенсуса; что касается отдельного индивидуума, то он приходит в согласие с самим собой. Способность людей к плодотворному коммуникативному действию Хабермас называет рациональностью.
В апреле 1989 г. Хабермас прочитал в Москве три лекции, в них он представил свою методологию, так сказать, в действии и свои главные философские интересы. Для московских философов того времени отнесенность этих интересов к сфере морально-этической была довольно непривычной. Этика в исследованиях советских философов на фоне преобладающих интересов к научному содержанию, как естественнонаучного, так и гуманитарного знания, всегда была золушкой. Лекции Хабермаса, особенно первая из них, к анализу содержания которой мы приступаем, стимулировали многих к размышлению о подлинных приоритетах философии.
Хабермас тематизирует ключевой для него вопрос философии: "Что я должен делать?". Выясняется, что этот вопрос может иметь прагматическое, этическое или моральное значение. При этом всякий раз меняется содержание разума, дискурса, воли, тип вопросов и ответов и действий. Так как во всех трех случаях разум демонстрирует свою состоятельность, способность обосновывать необходимость некоторых действий, то он обладает практическим характером.
При прагматическом использовании практического разума интересы и ценностные ориентации субъекта считаются заранее данными. Ведется поиск оснований для разумного выбора между целями (как именно отремонтировать велосипед, поступать ли в вуз, поехать ли на экскурсию и т.п.). Человек ведет себя активно, в соответствии со спонтанной волей, в аспекте целесообразности, действия его толковы, но случайны, здесь нет внутренней взаимосвязи между волей и разумом. В прагматическом дискурсе обосновываются технические и стратегические рекомендации.
В случае этического дискурса, этического использования разума субъект ищет ответ на вопрос: "Что я за личность и кем я бы хотел быть?". Речь идет о более сильных, чем при прагматическом дискурсе, предпочтениях. Под власть дискурсов ставятся сами интересы и ценности. Субъект осознает свой собственный жизненный путь в аспекте не целесообразности, а блага. "В этико-экзистенциальных дискурсах разум и воля взаимно определяют друг друга...". Здесь вырабатываются рекомендации к решающему жизненному выбору. Субъект, желая ясно представить себе свою жизнь в целом, уходит, на первый взгляд, в свое самосознание, где властвует исключительно своеобразие. Такое мнение ошибочно. "Отдельный индивид обретает необходимую для рефлексии дистанцию по отношению к собственной жизненной истории только в горизонте жизненных форм, в которых он участвует вместе с другими и которые со своей стороны образуют контекст для весьма различных жизненных проектов". Это означает, что рефлексия субъекта также является дискурсом. Другие люди выступают для субъекта безмолвными критиками. Осуществляемая в самосознании субъекта рефлексия, будучи воспроизведенной, понятна другим людям, т.е. по сути своей она не исключает, а наоборот, предполагает диалог.
Иначе обстоят дела в случае морально-практического дискурса. Только здесь "перспектива каждого сплетается с перспективой всех", практический разум теперь используется не в аспекте блага для разрозненных Я, а в аспекте справедливости для всех людей, для МЫ. Этим самым не ущемляются интересы кого бы то ни было. Воля субъекта в итоге полностью очищается от спонтанности и интуитивности. "... Личность действует по законам, которые она сама для себя устанавливает" . Морально-практический дискурс превращает волю целиком в рациональную, автономную и свободную.
Не существует единого метадискурса, что не исключает единство употребления разума в аспекте целесообразности, блага и справедливости. Подобно дискурсам обоснования дискурсы применения также когнитивны (мыслительны). Эффективность дискурсов проверяется в деле, там, где формы коммуникации принимают "вид объективного образования". Хабермас солидаризируется с Пирсом и другими представителями прагматизма: действительные проблемы содержат в себе нечто объективное и тем самым удерживают от произвола субъективизма. Однако сам Хабермас не является прагматицистом. Ведь надо полагать, отнюдь не случайно он всего лишь начинает свой анализ практического разума исследованием прагматического дискурса, но не ограничивается им. Таковы главные идеи его первой лекции в Москве, в которой он обобщил результаты своих многолетних исследований.
Главная мысль Хабермаса состоит в том, что философия призвана открыть простор публичному употреблению разума, процедурам дискурсивного волеобразования и изъявления, условиям рациональных дискурсов и переговоров. Никто и ничто не заслуживает большего доверия, нежели сами участники дискуссии, они найдут ответы на актуальные вопросы.
Для Хабермаса множащиеся попытки отрицания актуальности философии, эстетики, культуры несостоятельны. Он полагает, что в стремлении опрокинуть идеалы Просвещения (модерна) постмодернисты делают принципиальную ошибку, а именно удовлетворяются самопроизвольным, неразумно контролируемым взаимодействием когнитивного (мыслительного), эстетически-экспрессивного и морально-практического. "Мне кажется, что из той путаницы, которая сопровождает проект модерна, из ошибок экстравагантных программ упразднения культуры нам скорее следует извлечь уроки, чем признать поражение модерна и его проекта" . Ясно, что Хабермас имеет в виду развитый им вариант коммуникативной философии, в которой не только не отказывается от достоинств разума, а наоборот, старается придать им необходимый коммуникативный лоск.
Желая обеспечить будущее проекту модерна (Просвещения), Хабермас критически относится к трем разновидностям, как он выражается, консерватизма. Староконсерваторы (Х.Йонас, Р.Шпеманн) - традиционалисты, недоверчиво встречают новые веяния. Неоконсерваторы (ранний Витгенштейн и др.) относятся к достижениям модерна не без одобрения, но недостаточно критично, не принимая всерьез замыкание "...науки, морали и искусства в автономных, отъединенных от жизненного мира сферах...". Младоконсерваторы (среди них М.Фуко и Ж.Деррида) формируют непримиримый антимодернизм, противопоставляя разумному началу необоснованные принципы, в том числе волю к власти и поэтическое (в дионисийском духе) начало.
Именно от младоконсерваторов (точнее, от постмодернистов) последовала самая резкая реакция на критическое выступление Хабермаса. Один из лидеров постмодернистов Ж.-Ф.Лиотар резко раскритиковал желание Хабермаса найти путь к единству дискурсов познания, этики и политики. "Мой вопрос: о какого рода единстве мечтает Хабермас?". Согласно Лиотару, идеалы просвещенческого мышления не выдерживают критики. "Мы дорого заплатили за ностальгию по целому и единому, по примирению понятийного и чувственного, по прозрачному и коммуникабельному опыту". Лиотар опасается объятий единого, целого, связанного с этим террора и объявляет этому целому войну.
Видимо, обе стороны правы по-своему. Хабермас абсолютизирует силу разума, а Лиотар ее недооценивает. Нет никаких сомнений насчет актуальности хабермасовской философии. Она, безусловно, входит в фонд философских достижений XX века.
Итак, хабермасовская философия нетрадиционна постольку, поскольку в ней осуществляются дискурсы в их междисциплинарной историко-топической полноте. Можно сказать проще: философия Хабермаса - это прежде всего достаточно полновесные комплексные дискурсы.
Феноменолог Гуссерль ищет сущностное содержание потока переживаний личности; онтолог Хайдеггер обнаруживает в последовательных стадиях бытия нарастающий свет истины; герменевтик Гадамер наращивает в непрекращающемся вопрошании понимание; коммуницирующий философ Хабермас вскрывает согласие людей друг с другом и с самими собой в их дискурсивной практике.
В 1954 защитил под руководством Э.Ротхакера докторскую диссертацию о философии Шеллинга. С 1956 по 1959 – ассистент в Институте социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, руководимом М.Хоркхаймером, а в 1980–1983 – директор этого института. С 1964 по 1971 (и с 1983) – профессор философии и социологии Франкфуртского университета. С 1971 по 1980 – директор Института Макса Планка (в Штарнберге).
Немецкий философ, крупнейший представитель Франкфуртской школы. Родился в Дюссельдорфе 18 июня 1929. Изучал философию, историю и психологию в университетах Гёттингена, Цюриха и Бонна. В 1954 защитил под руководством Э.Ротхакера докторскую диссертацию о философии Шеллинга. С 1956 по 1959 – ассистент в Институте социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, руководимом М.Хоркхаймером, а в 1980–1983 – директор этого института. С 1964 по 1971 (и с 1983) – профессор философии и социологии Франкфуртского университета. С 1971 по 1980 – директор Института Макса Планка (в Штарнберге).
В центре философских размышлений Хабермаса – понятие коммуникативного разума. Первым шагом в развитии этого понятия была книга Познание и интерес (Erkenntnis und Interesse , 1968). В этой работе Хабермас ищет модель критического диалога, с помощью которой надеется заново осмыслить притязания трансцендентальной философии, увязав последнюю с инструментарием социальных наук. «Сознание», выступавшее в традиционной европейской онтологии в качестве верховного судьи, лишается теперь своих прерогатив, и его место занимает универсальное коммуникативное сообщество. При этом сама коммуникация не выступает в качестве высшей и последней инстанции, поскольку ее результаты находятся в зависимости от общественных условий и на них может сказываться влияние отношений господства и подчинения. Поэтому критике надлежит еще раз проанализировать общество, чтобы отличить свободную коммуникацию от коммуникации, находящейся под воздействием отношений господства – подчинения. В этом контексте образцами для Хабермаса выступают Маркс и Фрейд, сделавшие принципиально важный шаг на пути критического обновления понятия разума. Новое понятие разума критично (но связано с критикой общества, а не только с «критикой разума», как у Канта) и имеет всеобщий характер (будучи нормой процедур, выполняемых потенциально универсальным коммуникативным сообществом, а не актуальной очевидностью всеобщего акта «я мыслю», как у Декарта или Канта).
Начиная с 1971 (а именно с выходом небольшой работы Предварительные размышления по теории коммуникативной компетенции, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz) Хабермас стремится связать коммуникативное понятие разума с «лингвистическим поворотом», совершенным англо-американской аналитической философией. Обращаясь к соответствующим исследованиям К.-О.Апеля (и в тесном сотрудничестве с ним), Хабермас приходит к разработке понятия разума, опирающегося на теорию языковых актов. Эта теория обстоятельно излагается в двухтомном труде Теория коммуникативного действия (Theorie des kommunikativen Handelns , 1981).
Своеобразие философской теории Хабермаса заключается в том, что он связал понятие разума с эмпирической теорией социальной эволюции, разработанной Марксом, Вебером и Парсонсом. Он отвергает философский априоризм и сосредоточивает усилия на разработке постметафизического «философского проекта». Это означает, что философское понятие разума не является независимым от эмпирических наблюдений и должно постоянно подтверждать себя в диалоге с конкретными научными дисциплинами, отражающими факт функциональной дифференциации общества. Диалог философии с частными науками Хабермас иллюстрирует то на примере психоанализа (Познание и интерес), то на примере теории социальной эволюции (К реконструкции исторического материализма, Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus , 1976), то на примере теории общества (Теория коммуникативного действия), то на примере теории права (Фактичность и значимость, Faktizit t und Geltung , 1992). Теория познания возможна лишь в качестве теории общества – мысль, проходящая через все творчество Хабермаса. В противовес Марксу Хабермас четко различает философию истории и теорию общественной эволюции (сближаясь в этом пункте с Ж.Пиаже, Т.Парсонсом и Н.Луманом).
Основной мотив критической теории своих учителей, Хоркхаймера и Адорно, Хабермас с самого начала стремился дополнить теорией демократии. Благодаря этому дополнению Франкфуртская школа была выведена из тупика негативизма и получила мощный импульс для дальнейшего развития. Осмысляя структурную трансформацию, переживаемую обществом, Хабермас еще в начале 1960-х годов выдвинул понятие, которое в конце того же десятилетия сделалось ключевым для целого поколения революционной студенческой молодежи. Это понятие – публичность, общественность (ffentlichkeit). Другую важную тему хабермасовских исследований образует взаимосвязь права и демократии. Эта тема обсуждается Хабермасом в его книге Фактичность и значимость. где развитое в предыдущих работах коммуникативное понятие разума применяется к классической теории суверенитета. Стержнем предлагаемой им теории права является полемика с восходящим к К.Шмитту (1888–1985) разделением воли и разума (voluntas и ratio). Согласно Хабермасу, формирование национального суверенитета следует понимать как рациональный процесс, включающий в себя выработку общественной воли, которая вне этой рациональной процедуры носила бы анархический характер.
Формулировки и понятия Хабермаса оказали заметное влияние на современную мысль. Выдвинутые им в 1960-е годы понятия эмансипации, теоретико-познавательного интереса, коммуникации, дискурса в 1970-е годы были развиты в концепции «кризиса легитимности позднего капитализма», а в 1980-е годы дополнены терминами и афоризмами, получившими распространение в языке не только ученых, но и широкой публики («колонизация жизненного мира», «новая непрозрачность» и др.).
Полемика Хабермаса с «историческим ревизионизмом» консервативных немецких историков дала толчок дебатам, вышедшим далеко за пределы академического «спора историков». Продуктивное восприятие идей Хабермаса ощутимо во многих странах, особенно в США, где его влияние на молодых радикально настроенных интеллектуалов едва ли не сильнее, чем в ФРГ.
I
Онаучивание политики - это сегодня пока ещё не факт, но уже тенденция, в которую вписываются приводимые ниже факты. На развитие в этом направлении указывают прежде всего размеры государственных заказов в сфере научных исследований и масштабы научной экспертизы, привлекаемой государственными службами. Современное государство, сформированное потребностями центрального финансового управления, появившимися в связи с развитием рынка национальными и территориальными экономиками, с самого начала зависело от профессиональных компетенций юридически образованных чиновников. Однако они располагали техническим знанием, по сути не отличавшимся от профессиональных компетенций военных. Точно так же, как военные создали постоянную армию, юристы должны были организовать постоянное управление. Однако они занимались скорее искусством, нежели применяли на практике достижения науки. Ориентироваться же при исполнении своих служебных функций на строго научные рекомендации бюрократы, военные и политики стали лишь поколение назад, а в полной мере - лишь со времён Второй мировой войны.
Тем самым была достигнута новая ступень той «рационализации», в качестве которой Макс Вебер рассматривал уже формирование бюрократического господства современного государства. Учёные не захватили власть в государстве. Но осуществление господства во внутренней сфере и утверждение власти в отношении внешнего врага было уже не просто рационализировано посредством организованной по принципу разделения труда, регулируемой согласно компетенциям и связанной установленными нормами деятельности управления. Скорее они претерпели существенные изменения в своей структуре ввиду предметной законосообразности новых технологий и стратегий.
Опираясь на восходящую к Гоббсу традицию, Макс Вебер нашёл ясные дефиниции для характеристики отношений между профессиональным знанием и политической практикой. Знаменитое веберовское противопоставление господства чиновников и политического лидерства 69 служит строгому разделению между функциями эксперта и политика. Последний пользуется техническим знанием, однако практика самоутверждения и господства требует помимо этого заинтересованного осуществления сконцентрированной воли. В последней инстанции политическое действие не может иметь рационального обоснования. Скорее, в нём осуществляется выбор между конкурирующими ценностными порядками и вероучениями, которые не поддаются убедительной аргументации и остаются вне какой-либо общеобязывающей дискуссии. Сколько профессиональная компетентность специалиста ни определяла бы техники рационального управления и военной безопасности и тем самым ни принуждала бы средства политической практики следовать научным правилам, столько же невозможно в конкретной ситуации достаточным образом легитимировать практическое решение посредством разума. Рациональность выбора средств тесно увязана с явной иррациональностью занятия той или иной позиции по отношению к ценностям, целям и потребностям. И лишь полное разделение труда между предметно информированными и технически обученными «генеральными штабами» бюрократии и военных, с одной стороны, и наделёнными инстинктом власти и огромной волей вождями, с другой, должно, согласно Веберу, сделать возможным онаучивание политики.
Сегодня возникает вопрос о том, может ли эта децизионистская модель обоснованно претендовать на значимость также и на второй стадии рационализации господства. Подобно тому как системные исследования и, прежде всего, теория принятия решений не только дают в распоряжение политической практики новые технологии и улучшают обычные инструменты, но посредством калькулируемых стратегий и автоматизмов принятия решений рационализируют сам выбор как таковой, так, видимо, и предметное давление специалистов начинает превалировать над решимостью вождей. Поэтому сегодня хотят в духе традиции, идущей через Сен-Симона от Бэкона , принести децизионистское определение отношений между профессиональным знанием и политической практикой в жертву технократической модели 10 . Отношения зависимости специалиста от политика, похоже, перевернулись на 180°. Политик становится исполнительным органом научного разума, который в конкретных условиях осуществляет предметное давление используемых техник и вспомогательных средств, равно как и оптимальных стратегий и управленческих предписаний. Если станет возможным настолько рационализировать решение практических вопросов как выбор в ситуациях неопределённости, что постепенно исчезнет «симметрия растерянности» (Риттель), и тем самым вся проблематика принятия решения вообще, то тогда в техническом государстве политику действительно останется лишь фиктивная деятельность по принятию решений. Во всяком случае, он превратится в своего рода затычку до конца ещё не завершённой рационализации господства, тогда как вся инициатива и без того перейдёт в руки научного анализа и технического планирования. Государство, похоже, всё же будет вынуждено отречься от субстанции господства в пользу техник, эффективно применяемых в рамках предметно обусловленных стратегий. Ему, кажется, уже не долго оставаться аппаратом насильственной реализации принципиально не обосновываемых, и лишь децизионистски представляемых интересов, но предстоит превратиться в орган сплошь рационального управления.
Слабости этой технократической модели видны невооружённым глазом. Во-первых, она предполагает некое имманентное давление технического прогресса, тогда как технический прогресс этой мнимой самостоятельностью обязан исключительно естественности действующих в нём общественных интересов 71 . Во-вторых, технократическая модель предполагает наличие некоего континуума рациональности при рассмотрении технических и практических вопросов, которого не может быть 72 . Новые процессы, характеризующие рационализацию господства на второй стадии, никоим образом не ведут к полному исчезновению проблематики, связанной с разрешением практических вопросов. О «системах ценностей», то есть о социальных потребностях и объективных состояниях сознания, направлениях эмансипации и регрессии мы не можем высказывать никаких убедительных суждений в рамках исследований, увеличивающих нашу власть технического распоряжения. Однако для того, чтобы столь же рационально прояснить практические вопросы, полных ответов на которые не дают технологии и стратегии, необходимо или найти иные формы дискуссии, помимо теоретико-технических, или же разрешить подобные вопросы было бы вообще невозможно при помощи оснований. Но тогда мы должны были бы вернуться к децизионистской модели.
Этот вывод делает Герман Люббе: «Когда-то политик мог быть более значим, нежели специалист, поскольку последний лишь знал и планировал то, что осуществлял политик. Однако сейчас все выглядит, скорее, прямо противоположным образом, в той мере, в какой специалист умеет вычитывать то, что предписывает логика существующих отношений, в то время как политик отстаивает в спорных случаях позиции, для которых не существует инстанций земного разума» 73 . Люббе вводит в децизионистскую модель новую стадию рационализации, хотя в основном придерживается сформулированной Максом Вебером и Карлом Шмиттом противоположности технического знания и осуществления политического господства. Он осуждает технократическое самопонимание новых экспертов, которые логикой вещей маскируют то, что в действительности, как всегда, является политикой. Правда, игровое пространство чистых волевых решений ограничивается в той мере, в какой политик может применять расширенный и рафинированный арсенал технологических средств и пользоваться вспомогательными средствами для принятия стратегических решений. Однако лишь сейчас внутри этого ограниченного игрового пространства истинным стало то, что всегда утверждалось децизионизмом: лишь сейчас проблематика принятия политических решений сократилась до самого ядра, которое просто не может далее подвергаться рационализации. Доведённая до крайности калькуляция вспомогательных средств принятия решений возвращает принятие самого решения назад к чистому акту, очищая его от всех элементов, ещё доступных хоть какому-нибудь строгому анализу.
Между тем даже расширенная децизионистская модель не утратила в этом пункте своей изначальной проблематичности. Разумеется, она имеет дескриптивную ценность для практики научно информированного принятия решений, применяемой сегодня в командных центрах массовых демократий, прототипом которым служат США. Однако это не означает, что данный тип принятия решений должен по логическим причинам избегать дальнейшей рефлексии. Если в пробелах технологическо-стратегических исследований, обслуживающих политику, рационализация действительно прерывается и заменяется волевым решением, то это можно зафиксировать также как факт социальный, то есть объяснимый исходя из существующих объективных интересов. Здесь не идёт речь о поведении, необходимо вытекающем из связанной с реальным положением дел проблематики. Если, конечно, с самого начала не исключается возможность какой-либо научной дискуссии, дисциплинированного обсуждения вообще вне рамок позитивистски дозволенного языка. А поскольку в действительности этого не происходит, то децизионистская модель, как бы она ни приближалась к фактически используемым процедурам онаученной политики, оказывается неадекватной своим собственным теоретическим притязаниям.
Очевидно, что существуют отношения взаимозависимости между, с одной стороны, ценностями, вытекающими из интересов, и, с другой стороны, техниками, которые могут быть применены для удовлетворения ценностно ориентированных потребностей. Когда так называемые ценности на длительное время лишаются связи с технически достигаемым удовлетворением реальных потребностей, то они становятся нефункциональными и отмирают как идеологии. И напротив, с помощью новых техник на основе изменившихся интересов могут возникать новые системы ценностей. В любом случае децизионистское отделение ценностных и жизненных вопросов от предметной проблематики остаётся абстрактным. Как известно, уже Дьюи обсуждал то, что применение постоянно увеличивающихся и улучшенных техник не просто остаётся связанным с не подвергающимися обсуждению ценностными ориентациями, но со своей стороны как бы подвергает традиционные ценности прагматическому испытанию. В конце концов, ценностные убеждения должны сохраняться лишь постольку, поскольку они контролируемым образом взаимосвязаны с существующими и мыслимыми техниками, то есть с возможной реализацией ценности в производимых благах или изменяемых ситуациях. Хотя Дьюи и не учитывал различия между контролем посредством успеха в отношении технических рекомендаций и практическим испытанием техник в герменевтически прояснённом контексте конкретных ситуаций. Тем не менее он настаивает на прагматической проверке и, следовательно, рациональном обсуждении отношений между существующими техниками и практическими решениями, что игнорируется при децизионистском подходе.
Вместо проведения строгого различия между функциями эксперта и политика в рамках прагматической модели возникает их критическая переменчивая взаимосвязь, которая не просто обнажает шаткий легитимационный базис идеологически подкреплённой практики господства, но и делает его в целом доступным для научной дискуссии, тем самым субстанциально его изменяя. Специалист, в отличие от того, как представляет дело технократическая модель, не становится суверенным по отношению к политикам, которые фактически подчинены предметному давлению и принимают лишь фиктивные решения. Но и политики, в пику тому, что утверждает децизионистская модель, также не сохраняют за пределами вынужденно рационализованных сфер практики некую резервацию, в которой практические вопросы по-прежнему должны решаться путём волевого акта. Скорее, представляется возможной и необходимой переменчивая и взаимосвязанная коммуникация того рода, что научные эксперты «консультируют» инстанции в принятии решений, а политики со своей стороны «привлекают» учёных в зависимости от потребностей практики. При этом, с одной стороны, развитие новых техник и стратегий управляется из ставшего эксплицитным горизонта потребностей и исторически определённых интерпретаций этих потребностей, иначе говоря, из горизонта систем ценностей. С другой стороны, эти находящие отражение в системах ценностей общественные интересы контролируются, в свою очередь, проверкой технических возможностей и стратегических средств их удовлетворения. Таким образом они частично подтверждаются, а частично отклоняются, артикулируются и формулируются по-новому или же обнажают свой идеологически преображённый и обязывающий характер.
II
До сих пор мы выявили три модели отношений между профессиональным знанием и политикой^ не учитывая устройства современных массовых демократий. Лишь одна из них - прагматическая - необходимо связана с демократией. Если разделение компетенций между экспертами и лидерами разыгрывается по децизионистскому образцу, то политически функционирующая общественность, состоящая из граждан государства, может служить исключительно легитимации группы лидеров. Выбор и подтверждение правящих или способных к правлению лиц являются, как правило, плебисцитарными актами. Однако поскольку голосование может проводиться относительно замещения постов, а не относительно основных направлений самих будущих решений, демократические выборы осуществляются в данном случае, скорее, в виде аккламаций, нежели в виде общественных дискуссий. Перед политической общественностью легитимность получают в лучшем случае лица, которые обязаны принимать решения. Сами же решения, в соответствии с децизионистским пониманием, должны в принципе исключаться из сферы общественной дискуссии. В соответствии с этим онаучивание политики вполне вписывается в разработанную Максом Вебером и ставшую для новой политической социологии обязательной благодаря Шумпетеру теорию, возводящую процесс демократического волеобразования, в конечном счёте, к регулируемой процедуре аккламации элит, призванных стать альтернативой существующему господству. Само же господство, остающееся в своей иррациональной субстанции неприкосновенным, можно таким способом лишь легитимировать, но - как таковое - никак не рационализировать.
Однако технократическая модель онаученной политики, напротив, претендует на подобную рационализацию. Разумеется, редукция политического господства до рационального управления в данном случае вообще мыслима лишь ценой демократии. Политически функционирующая общественность, - если бы политики жёстко подчинялись предметному давлению - могла бы в лучшем случае лишь легитимировать управленческий персонал, вынося суждения об уровне профессиональной квалификации назначенных функционеров. Однако при сравнительно одинаковом уровне квалификации управленцев должно быть в принципе всё равно, какая из конкурирующих властных групп получит власть. Таким образом, технократическое управление индустриальным обществом делает демократическое волеобразование беспредметным. Этот вывод делает Гельмут Шельски: «Место политической воли народа занимает предметная законосообразность, которую создаёт сам человек в виде науки и труда» 74 .
В противоположность этому в соответствии с прагматической моделью успешный перевод технических и стратегических рекомендаций в практику зависит от посредничества политической общественности. Ведь коммуникация между экспертами и принимающими решения политическими инстанциями, которая в равной степени определяет направление технического процесса, исходя из связанного с традицией самопонимания практических потребностей, и, наоборот, соизмеряет и критикует это самопонимание, исходя уже из технически возможных шансов удовлетворения данных потребностей, должна быть привязанной к общественным интересам и ценностным ориентациям данного социального жизненного мира. В обоих вариантах взаимосвязанный процесс коммуникации соотносится с тем, что Дьюи называл value beliefs , (Ценностные убеждения [англ.] - Прим. перев. ) то есть с неким исторически определённым и общественно нормированным предпониманием практически необходимого в каждой конкретной ситуации. Это предпонимание является лишь герменевтически проясняемым сознанием, артикулируемым во взаимном общении совместно живущих граждан. Таким образом, та предусматриваемая в прагматической модели коммуникация, которая делает политическую практику научной, не может формироваться независимо от коммуникации, которая всегда происходит на донаучном уровне. Однако эта донаучная коммуникация может получать институционализацию в демократической форме общественных дискуссий, которые ведёт гражданская публика. Для онаучивания политики отношение наук к общественному мнению является конститутивным.
Разумеется, собственно в традиции прагматического мышления это отношение не возводилось до уровня темы. Для Дьюи было само собой разумеющимся, что взаимное руководство и просвещение, существующее между, с одной стороны, производством техник и стратегий и, с другой стороны, ценностными ориентациями заинтересованных групп, может осуществляться лишь в несомненном горизонте здравого человеческого рассудка и неусложнённой общественности. Однако структурные изменения буржуазной общественности должны были продемонстрировать наивность этого невинного понимания, если оно и без того не потерпело крах ввиду внутреннего развития науки, которое сегодня превращает в неразрешимую проблему даже адекватную трансляцию технической информации между отдельными дисциплинами, не говоря уже о трансляции между науками и широкой публикой. Тот, кто в равной степени придерживается идеи продолжительной коммуникации между политически задействованными науками и информированным общественным мнением, попадает под подозрение в том, что он пытается перевести научные дискуссии на массовую основу и идеологически использовать их. Он провоцирует критику идеологии, которая, вопреки мировоззренчески упрощённым и поверхностным интерпретациям результатов научного прогресса, настаивает на позитивистском разделении теории и практики. Нейтральность Макса Вебера по отношению к ценностям, уже реализованным практикой, может убедительным образом использоваться против псевдо-рационализации практических вопросов, против поспешного соединения технической компетентности и подверженной манипуляциям публики, против искажённого резонанса, который научная информация находит на потрескавшейся почве деформированной общественности 75 .
Между тем эта критика - вследствие того, что она вообще сомневается относительно дальнейшей рационализации господства - не выходит за рамки позитивистских ограничений и деградирует до уровня идеологии, защищающей науку от саморефлексии. Тогда она путает фактическую сложность продолжительной коммуникации между наукой и общественным мнением с нарушением логических и методологических правил. Прагматическая модель может, естественно, не без определённых оговорок, применяться к политическому волеобразованию в современных массовых демократиях. Но не потому, что обсуждение практических вопросов, как в связи с существующими техниками и стратегиями, так и с точки зрения горизонта эксплицированного самопонимания социального жизненного мира, привело бы к мнимой рационализации необосновываемых волевых актов. Однако данная модель не учитывает логическое своеобразие и социальные предпосылки надёжного перевода научной информации на обыденный язык практики, равно как и наоборот - обратного перевода информации из контекста практических вопросов на профессиональный язык технических и стратегических рекомендаций 76 . На примере США, то есть страны, где онаучивание политической практики продвинулось дальше всего, становится видно, каким образом в дискуссии между учёными и политиками возникают подобные герменевтические задачи и как они там решаются, будучи не осознанными как таковые . Но поскольку эта замалчиваемая герменевтика эксплицитно не попала под воспитание научных дисциплин, то возникает внешняя видимость - а у участвующих в ней и самоочевидность - некоего логически необходимого разделения труда между технической помощью при принятии решений и ясным волевым решением.
III
Коммуникация между политически уполномоченными заказчиками и профессионально компетентными учёными крупных исследовательских институтов обозначает критическую зону перевода практических вопросов в научно формулируемые проблемы и обратного перевода научной информации в ответы на практические вопросы. Впрочем, эта формулировка ещё не затрагивает диалектику процесса. Гейдельбергская группа исследований систем приводит следующий показательный пример. Главный штаб американских военно-воздушных сил через обученных посредников поставил программному бюро одного крупного научно-исследовательского института грубо обрисованную военно-техническую или организационную проблему. Исходным пунктом была довольно смутно сформулированная потребность. Более же строгое определение проблемы было получено лишь в процессе продолжительной коммуникации между научно образованными офицерами и руководителем проекта.
Однако на идентификации подходящей дефиниции поставленной проблемы контакт не закончился. Их достаточно лишь для заключения детального договора. Во время самих исследовательских работ на всех уровнях, от президента до техника, происходит обмен информацией с соответствующими подразделениями организации, выступающей заказчиком. Эта коммуникация не должна прерываться до тех пор, покуда не будет найдено принципиальное решение проблемы, потому что цель любого проекта окончательно определяется лишь вместе с принципиально обозримым решением проблемы. Предпонимание проблемы, практическая потребность заказчика, само артикулируется лишь в той мере, в какой теоретические решения и тем самым техники удовлетворения выявляются в строго спроектированных моделях. Коммуникация между двумя партнёрами как бы образует распростершуюся между практикой и наукой сеть рационального обсуждения, которая не должна обрываться, чтобы при развитии определённых технологий или стратегий поначалу неопределённо предпонимаемый интерес в устранении проблематичной ситуации был не искажен, но смог сохраниться в формализованных научных моделях строго в соответствии со своей интенцией. И наоборот, практические потребности, соотносящиеся с ними цели, сами системы ценностей обретают свою подлинную определённость лишь в связи с их технически возможной реализацией.
Ситуационное понимание политически действующих социальных групп в столь значительной степени зависит от имеющихся для осуществления тех или иных интересов техник, что зачастую исследовательские проекты возникают не из практических вопросов, но навязываются учёными политикам. При знании состояния исследований можно проектировать техники, для которых связь с практическими потребностями ещё предстоит обнаружить, ещё предстоит установить взаимосвязь с вновь артикулированными потребностями. Однако до этой точки разрешения проблемы и артикуляции потребности завершена лишь половина процесса трансляции. Технически адекватное решение более точно осознанной проблемы должно в свою очередь подвергнуться обратному переводу в общий контекст исторической ситуации, в котором оно имеет практические последствия. Оценка подготовленных систем и разработанных стратегий требует в конечном счёте ту же форму интерпретации конкретного взаимодействия, с которой, с состояния предпонимания исходного практического вопроса, и начался процесс перевода.
Этот процесс перевода, разворачивающийся между политическими заказчиками и экспертами проективных наук, также по большей части институционализирован. Так, на правительственном уровне для руководства научными исследованиями и развитием и управления консультирующими институтами создаётся управленческая бюрократия, в самих функциях которой в очередной раз отражается специфическая диалектика перевода науки в политическую практику. Федеральное американское правительство содержит 35 подобных научных агентств. В их рамках осуществляется долговременная коммуникация между наукой и политикой , которая иначе разгорелась бы ad hoc («Для этого», то есть в каждом конкретном случае [лат.] - Прим. перев. ) ещё на стадии размещения специальных заказов на проведение исследований. Уже первый правительственный комитет по делам учёных, учреждённый американским президентом в 1940 году перед самой войной, взял на себя те две функции, которые выполняет сегодня огромная машинерия консультирования. Политическое консультирование имеет в качестве своей цели, с одной стороны, интерпретацию результатов научных исследований, исходя из горизонта ведущих интересов, определяющих понимание ситуации действующими лицами, а с другой стороны, оценку проектов, а также инициирование и отбор таких программ, которые направляют исследовательский процесс в русло решения практических вопросов.
Как только эта задача освобождается из контекста отдельных проблем, а темой становится развитие исследований в целом, в диалоге между наукой и политикой речь уже идёт о том, чтобы сформулировать долгосрочную исследовательскую политику . Именно в этом заключается попытка поставить под контроль естественно возникающие отношения между техническим прогрессом и социальным жизненным миром. Направление технического прогресса сегодня все ещё определяется общественным интересом, возникающим естественным образом из необходимости воспроизводства общественной жизни. При этом оно не становится предметом рефлексии и не соотносится с ясным просвещённым политическим самопониманием социальных групп. Вследствие этого новые технические возможности вторгаются без какой-либо подготовки в существующие формы жизненной практики, а новые потенциалы увеличившейся власти технического распоряжения делают ещё более явственной несогласованность между напряжённейшей рациональностью и неотрефлектированными целями, закосневшими ценностными системами, утратившими силу идеологиями.
Занятые исследовательской политикой консультативные органы стимулируют появление интердисциплинарно взаимосвязанных научных исследований нового типа, которые должны будут прояснить имманентное состояние развития и социальные условия технического прогресса вместе с образовательным уровнем всего общества и в этом смысле впервые оторваться от естественных интересов. Эти изыскания преследуют также герменевтический познавательный интерес. А именно они позволяют сопоставить данные общественные институты и их самопонимание с фактически применёнными и потенциально располагаемыми техниками. И соотносясь подобным образом с нацеленным прояснением с позиций критики идеологии, они также, наоборот, позволяют переориентировать общественные потребности и заявленные цели. Формулирование долгосрочной политики научных исследований, подготовка новых видов индустрии, которые станут использовать будущую научную информацию, планирование системы образования для подготовки новой квалифицированной смены, профессиональные позиции для которой ещё только будут созданы - в этом стремлении взять под сознательное управление определявшееся прежде естественно-исторически соединение технического прогресса с жизненной практикой больших индустриальных обществ разворачивается диалектика просвещённой воли и осознающего себя умения.
В то время как коммуникация между экспертами крупных исследовательских институтов и политическими заказчиками при работе над отдельными проектами разыгрывается в рамках объективно разграниченной проблемной сферы, а дискуссия между консультирующими учёными и правительством остаётся привязанной к сочетанию конкретных ситуаций с располагаемым техническим потенциалом, диалог между учёными и политиками при решении этой третьей задачи программирования развития всего общества освобождается от определённых проблемных импульсов. Разумеется, он должен как-то соотноситься с конкретной ситуацией, а именно, с одной стороны, с историческим содержанием традиции и общественными интересами, а с другой стороны, с данным уровнем технического знания и индустриального применения этого знания. Но в остальном попытка перехода к долгосрочной научно-исследовательской и образовательной политике, ориентированной на имманентные возможности и объективные последствия, должна следовать той диалектике, которую мы уже наблюдали на предыдущих этапах. Она должна прояснить отношение политически действующих лиц к общественному потенциалу технических знаний и умений через определяемое традицией самопонимание их интересов и целей, и одновременно в свете по-новому артикулированных и заново проинтерпретированных потребностей дать им возможность практически судить о том, в каком направлении они желали бы развивать в будущем свои технические знания и умения. Данное обсуждение неизбежно движется по кругу: лишь в той мере, в какой мы, зная наши технические умения, ориентируем нашу исторически определённую волю на конкретную ситуацию, мы, наоборот, знаем, какого именно определённым образом ориентированного расширения наших технических умений мы желаем в будущем.
IV
Существующий между наукой и политикой процесс трансляции ориентируется, в конечном счёте, на общественное мнение. Это отношение не является для него внешним, как это выглядит, например, согласно действующим нормам конституционного устройства. Скорее оно возникает по имманентной необходимости из требований столкновения технического знания и умения с зависящим от традиции самопониманием , в горизонте которого потребности интерпретируются в качестве целей, а цели гипостазируются в облике ценностей. В интеграции технического знания и герменевтической договорённости с самим собой всегда скрыт также и момент предвосхищения, поскольку сама эта интеграция должна приводиться в действие посредством дискуссии учёных, вызванной гражданской публикой. Просвещение научно инструментированной политической воли в соответствии с масштабами рационально обязывающей дискуссии может исходить лишь из горизонта самих общающихся друг с другом граждан и должно обратно возвращаться в него.
Консультанты, желающие выяснить, какую волю выражают политические инстанции, также находятся под давлением герменевтической необходимости обращаться к историческому самопониманию какой-либо социальной группы, в конечном счёте - к разговорам граждан между собой. Подобная экспликация, безусловно, связана с методами герменевтических наук. Однако эти науки не разрушают догматическое ядро исторически выработанных и унаследованных традиционных интерпретаций. Они лишь истолковывают его. Оба дальнейших шага социально-научного анализа данного самопонимания с точки зрения взаимосвязи общественных интересов, с одной стороны, и уточнения относительно располагаемых техник и стратегий, с другой, хотя и ведут за пределы этого круга общения граждан, но результат этих шагов может обрести действенность в качестве просвещения политической воли лишь внутри коммуникации граждан. Потому что артикуляция потребностей в соответствии с масштабами технического знания может быть ратифицирована исключительно в сознании самих политически действующих граждан. Эсперты не могут заменить этот акт подтверждения со стороны людей, которые своей историей жизни должны поручиться за новые интерпретации социальных потребностей и за принятые средства разрешения проблем. Впрочем, с данной оговоркой, они должны уже заранее его предвосхитить. Если они принимают на себя исполнение этих обязанностей, они мыслят, исходя из опыта, и одновременно вынужденно философски-исторически, хотя при этом могут не разделять убеждений философии истории.
Процесс онаучивания политики вместе с интеграцией технического знания в герменевтически эксплицированное самопонимание той или иной ситуации мог бы завершиться лишь в том случае, если в условиях распространённой на гражданскую публику и свободной от господства коммуникации между наукой и политикой будет найдена гарантия того, что воля обеспечивает себе такое просвещение, к которому она действительно стремиться желает, и что одновременно это просвещение будет пронизывать фактическую волю настолько, насколько оно способно это делать при данных, желательных и возможных обстоятельствах. Эти принципиальные соображения , разумеется, не должны скрывать того обстоятельства, что эмпирические условия для применения прагматической модели совершенно отсутствуют. Деполитизация массы населения и распад политической общественности являются составными частями той системы господства, которая стремится исключить практические вопросы из сферы общественной дискуссии. Бюрократической практике господства соответствует, скорее, демонстративная публичность, обеспечивающая одобрение со стороны обработанного средствами массовой информации населения 77 . Но если мы и отвлечемся от системных ограничений и предположим, что общественные дискуссии сегодня ещё способны обретать социальный базис в среде широкой публики, даже и в этом случае обеспечение релевантной научной информации будет не простым делом.
Независимо от способности вызывать резонанс, наиболее важным по практическим последствиям результатам научных исследований сложнее всего находить доступ к политической общественности. Если раньше индустриально применимая информация держалась в секрете в крайнем случае вследствие частно-экономической конкуренции или охранялась законом, то сегодня свободный поток информации блокирован прежде всего связанными с военной тайной предписаниями. Задержка между моментом открытия и моментом публикации составляет в случае стратегически релевантных результатов по меньшей мере три года, но во многих случаях - более чем десятилетие.
Свободному коммуникационному потоку принципиально мешает также и другой барьер между наукой и общественностью. Я имею в виду бюрократическую замкнутость, возникающую из организации современного исследовательского предприятия.
Вместе с формами индивидуальной учёности и беспроблемного единства научных исследований и обучения исчезает и непринуждённый и когда-то само собой разумеющийся контакт отдельного исследователя с широкой публикой, будь это студенческая аудитория или собрание образованных дилетантов. Предметный интерес интегрированного в крупное производство исследователя, ориентированный на решение узко обозначенной проблемы, уже не требует изначальной тесной увязки с педагогическим или публицистическим аспектом доведения информации читательской или слушательской аудитории. Потому что адресатом организованных исследований, для которого и предназначена научная информация, теперь является, в любом случае непосредственно, не обучающаяся публика или дискутирующая общественность, но, как правило, заказчик, заинтересованный в импульсе для исследовательского процесса ради его технического применения. Прежде задача литературного представления открытия относилась к сфере самой научной рефлексии. В системе крупного научно-исследовательского производства на место этого приходят адресованый заказчику меморандум и научный отчёт, ориентированный на рекомендации по техническому применению результатов.
Разумеется, при этом существует внутренняя научная публичность, в рамках которой эксперты обмениваются информацией посредством специальных журналов или на научных конференциях. Однако вряд ли стоило бы ожидать развития контактов между ней и литературной или даже политической общественностью, если, конечно, какое-либо затруднение не приведёт к появлению новой формы коммуникации. Подсчитано, что в процессе дифференциации научных исследований в последние сто лет количество специальных научных журналов удваивалось каждые пятнадцать лет. Сегодня во всём мире выходит 50 000 научных журналов 78 . Поэтому вместе со все возрастающим потоком информации, которая должна перерабатываться в рамках научной общественности, увеличивается и количество попыток обобщения ставшего необозримым материала, его организации и обработки в целях общего обзора.
Реферативный журнал обозначил лишь первый шаг на пути процесса перевода, который бы стал перерабатывать сырой материал исходной информации. Ряд журналов также служат аналогичной цели коммуникации между учёными различных дисциплин, нуждающихся в переводчике для того, чтобы использовать в своей работе наиболее важную информацию смежных дисциплин. Чем дальше специализируются исследования, тем большее расстояние должна преодолевать наиболее важная информация для того, чтобы влиться в работу экспертов из других научных дисциплин. Так, о новостях техники или химии физики черпают информацию из журнала «Тайм». Гельмут Краух вполне обоснованно считает 79 , что и в Германии обмен между учёными разных дисциплин уже нуждается в «переводческой» деятельности научной журналистики, простирающейся от претенциозных литературных сообщений до колонок в ежедневной прессе. На примере кибернетики, развивающей свои модели, анализируя процессы в сфере физиологии, информационной техники, психологии головного мозга и экономики и при этом соединяющей результаты самых отдалённых дисциплин, можно легко наблюдать, как важно не обрывать коммуникационную взаимосвязь, даже если идущая от одного к другому специалисту научная информация должна проходить длинный путь через обыденный язык и обыденное понимание дилетантов. Внешняя для науки общественность оказывается при глубоком разделении научного труда самым коротким путём внутреннего общения отчуждённых друг от друга учёных-специалистов. Но от этой необходимости перевода научной информации, возникающей из потребностей самого научно-исследовательского процесса, выигрывает поставленная под угрозу коммуникация между наукой и широкой публикой, политической общественности.
Другая тенденция, также препятствующая снижению уровня коммуникации между двумя сферами, возникает из международной необходимости мирного сосуществования конкурирующих общественных систем. А именно предписания по сохранению военной тайны, блокирующие свободное перетекание научной информации в сферу публичности, все менее и менее, как продемонстрировал Оскар Моргенштейн 80 , соответствуют условиям становящегося всё более насущным контроля над вооружениями. Возрастающие риски критического равновесия сдерживания настоятельно требуют взаимно контролируемого разоружения. Всеобъемлющая система инспекций, которую предполагает процесс разоружения, может действенно работать лишь в том случае, если принцип публичности будет непреклонно распространяться на все без исключения международные отношения, стратегические планы и, прежде всего, на используемый в военных целях потенциал. Ядром этого потенциала, в свою очередь, являются стратегически применимые исследования. Программа Открытого Мира требует поэтому в первую очередь свободного обмена научной информацией. Таким образом, имеются определённые основания для предположения о том, что государственная монополизация технически насыщенных наук, к которой мы в настоящее время приближаемся под знаком всеобщей гонки вооружений, должна рассматриваться как промежуточная стадия, ведущая в конечном итоге к коллективному пользованию информацией на основе беспрепятственной коммуникации между наукой и публичной сферой.
Конечно, ни имманентная науке необходимость трансляции научных знаний, ни исходящее извне давление, требующее свободного обмена исследовательской информацией, будут недостаточными для того, чтобы вызвать в способной на резонанс общественности серьёзную дискуссию о практических последствиях результатов научных исследований, если с подобной инициативой не выступят сами ответственные исследователи. Третья тенденция, о которой мы хотели бы упомянуть как раз в связи с подобной дискуссией, возникает из ролевого конфликта, в который репрезентативные исследователи вовлекаются, с одной стороны, как учёные, а с другой стороны, как граждане. В той мере, в какой науки действительно задействованы в политической практике, перед учёными объективно встаёт необходимость помимо предложения технических рекомендаций заняться рефлексией относительно практических последствий этих рекомендаций. По большому счёту, сначала это касалось ядерных физиков, работающих над созданием атомных и водородных бомб.
Уже состоялись дискуссии, в ходе которых ведущие учёные спорят о политических последствиях их исследовательской практики. Так дискутируют, например, о вредных влияниях, которые радиоактивные осадки оказывают на здоровье населения и на наследственность человеческого рода. Однако примеров подобных дискуссий ничтожно мало. И всё же они демонстрируют, что вне зависимости от компетенций ответственные учёные преодолевают ограничения своей внутренней научной публичности и обращаются непосредственно к общественному мнению в тех случаях, когда они стремятся предотвратить практические последствия, связанные с выбором определённых технологий, или когда они хотят подвергнуть критике определённые инвестиции в исследования ввиду их социальных последствий.
Впрочем, подобные примеры вряд ли дают возможность почувствовать, что разворачивающаяся в офисах обслуживающих политику научных советников дискуссия должна в принципе также распространяться ещё и на широкий форум политической общественности, что и тот диалог, который ведут или, точнее, должны наконец-то начать вести между собой учёные и политики для того, чтобы сформулировать принципы долговременной научной политики.
Как мы видели, у обеих сторон отсутствуют условия, которые благоприятствовали бы этому диалогу. С одной стороны, мы уже не можем рассчитывать на гарантированные институты применительно к общественной дискуссии среди широкой гражданской публики. С другой стороны, система разделения труда крупных исследовательских организаций и бюрократический аппарат политического господства могут хорошо взаимодействовать друг с другом лишь в изоляции от сферы политической общественности. Интересующая нас альтернатива заключается вовсе не в выборе между двумя группами лидеров: той, что исчерпывает жизненно важный потенциал знания помимо обработанного средствами массовой информации населения, и другой, которая сама закрыта для притока научной информации, так что в результате техническое знание лишь в незначительной степени попадает в процесс политического волеобразования. Скорее, речь идёт о том, попадёт ли имеющее важные последствия знание лишь в руки технически занятых лиц или же одновременно оно станет также достоянием языковой коммуникации людей. В качестве созревшего онаученное общество может конституироваться лишь в той мере, в какой наука и техника через головы людей будут объединены жизненной практикой.
Специфическое измерение, в рамках которого возможен контролируемый перевод технического знания в знание практическое, а тем самым и научная рационализация политического господства, исчезает, если принципиально возможное просвещение политической воли относительно ознакомления с её техническими умениями будет рассматриваться в пользу закоснелых методов принятия решений как невозможное, и как излишнее в пользу технократии. Объективным следствием этого в обоих случаях будет то же самое: преждевременное прерывание возможной рационализации. Иллюзорные же попытки технократов дирижировать политическими решениями, следуя исключительно логике положения вещей, лишь дали бы децизионистам право чистого произвола по отношению к тому, что на периферии технологической рациональности концентрируется в качестве неуничтожимых остатков практического.
Юрген Хабермас
Хабермас Юрген (р. 1929) – немецкий философ, социолог-теоретик, представитель «второго поколения» Франкфуртской школы социальной философии (критического анализа). Труды: «Структурная трансформация публичной сферы» (1962), «Техника и наука как идеология» (1968), «Познание и интерес» (1968), «К логике социальных наук» (1973), «Теория коммуникативного действия» (1982) и др. Предмет исследований – теория познания, коммуникации, проблемы языка и этики, методология и философия права, перспективы современных развитых обществ и др. Разрабатывал проблематику динамики развитого капитализм, природы рациональности и отношений между социологией и философией. Обосновал абстрактную теоретическую систему – теорию коммуникативного действия. Его научным изысканиям характерен синтез социологических теорий М. Вебера и Э. Дюркгейма , неомарксизма Франкфуртской школы социальной философии, создавшей «критическую теорию», психоанализа З. Фрейда , феноменологии и структурализма и др.
Использованы материалы кн.: Политическая мысль Новейшего времени. Персоналии, идеи, концепции: Краткий справочник / Сост. Михайлова Е.М. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2010, с. 34.
Другие биографические материалы:
Подопригора С.Я., Подопригора А.С. Немецкий социальный философ и социолог (Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. - Изд. 2-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 ).
Фролов И.Т. Немецкий философ и социолог (Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991 ).
Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Автор теории «коммуникативного действия» (Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М. 2010 ).
Мотрошилова Н.В. Важное значение в его концепции занимает понятие «жизненного мира» (Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010 ).
Фурс В.Н., Можейко Н.А. Его концепция стала рубежной точкой поворота неклассической философии от модернизма к постмодернизму (Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. Минск, 1998 ).
Стремится «корректировать» идеологию реформизма в духе раннебуржуазных просветительских идеалов (Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983 ).
Философ и политический мыслитель (Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под. ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова, при участии Т.А. Дмитриева. М., 2009 ).
Исследовал развитие автономных форм общественности (А. Акмалова, В. М. Капицын, А. В. Миронов, В. К. Мокшин. Словарь-справочник по социологии. Учебное издание. 2011 ).
Далее читайте:
Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия . (Статья Н. В. Мотрошиловой о сочинении Хабермаса).
Философы, любители мудрости (биографический указатель).
Сочинения:
Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995;
Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000;
Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001;
Будущее человеческой природы. М., 2002;
Философский дискурс о модерне. М., 2003;
Политические работы. М., 2005;
Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М., 2006 (совм. с Й. Ратцингером); Техника и наука как «идеология». М., 2007;
Расколотый Запад. M.j 2008;
Theorie und Praxis. Neuwied-В., 1963;
Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Fr./M., 1976;
Philosophisch-politische Profile. Fr./M., 1981;
Zur Logik der Sozialwissenschaften. Fr./M., 1982;
MoralbewuBtsein und kommunikatives Handeln. Fr./M., 1983;
Die Neue Uniibersichtlichkeit. Fr./M., 1985;
Eine Art Schadensabwicklung. Fr./M., 1987;
Nachmetaphysisches Denken. Fr./M., 1988;
Die nachholende Revolution. Fr./M., 1990; Texte und Kontexte. Fr./M., 1991;
Vergangenheit als Zukunft. Z., 1991;
Die Einbeziehung des Anderen. Fr./M., 1997; в рус. пер.: Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1991, 1995.
Strukturwandel der Offentlichkeit. Neuwied, 1962;
Erkenntnis und Interesse. Fr./M., 1968;
Theorie und Praxis. Fr./M., 1968;
Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus. Fr./M., 1973;
Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus. Fr./M., 1976;
Theorie des kommunikativen Handelns. Fr./M., 1981;
Faktizit t und Geltung. Fr./M., 1992;
Die postnationale Konstellation. Fr./M., 1998;
Wahrheit und Rechtfertigung. Fr./M., 1999;
Zwischen Naturalismus und Religion. Fr./M., 2005.
Литература:
Honneth A. Kritik der Macht. Fr./M., 1985; HorsterR. Jurgen Ha- bermas. Stuttg., 1991;
Suiter A. A. Moderne und Kulturkritik. Jiirgen Habermas und das Erbe der kritischen Theorie. Bonn, 1996.
Horster D. Jiirgen Habermas. Mit einer Bibliographie von R. Gortzen. Stuttgart, 1991;
McCarthy Th. The Critical Theory of Jiirgen Habermas. Boston, 1978;
Outhwaite W. Habermas, A Critical Introduction. Stanford, 1994:
Pinzani A. Jiirgen Habermas. Mimchen, 2007;
White St, (Ed.) The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge, 1995.