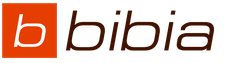480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников
240 руб. | 75 грн. | 3,75 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Автореферат - 240 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья
Беккер Маттиас. Начала нравственной философии в "Оправдании добра" Владимира Соловьева: диссертация... кандидата философских наук: 09.00.05.- Санкт-Петербург, 2002.- 125 с.: ил. РГБ ОД, 61 03-9/413-2
Введение
ГЛАВА 1. B.C. Соловьев и вопрос о свободе воли 17
1. Воля у Соловьева и Канта
2. Введение Соловьевым возможности абсолютного произвола
3. Поворот Соловьева как "коперниканский переворот" Канта
ГЛАВА 2. Стыд и аскетизм как основания единства человека в нравственной философии В. С. Соловьёва 40
1. Структура чувства стыда. Чувство стыда как различённость чувства (чувственности) и действия (действительности)
2. Чувство стыда как нравственное самосознание
3. Чувство стыда как факт действительности
4. Подлинный и мнимый нравственный аскетизм
5. Аскетизм как единство чувственности и разума
ГЛАВА 3. Жалость и альтруизм как осуществление нравственной полноты человека в учении B.C. Соловьёва 63
1. Жалость как соединение чувства и разума
2. Жалость и воля человека
ГЛАВА 4. Противоположность блага и добра (критика Соловьевым отвлеченного эвдемонизма)... 78
1. Определение человека как человека, "желающего чего-то"
2. Критика благоразумного эвдемонизма
3. Различие между нравственным и эвдемонистическим аскетизмом
4. Критика утилитаризма
ГЛАВА 5. Отношение блага к добру как основное начало в нравственной философии В. С. Соловьёва 99
Заключение 115
Список литературы 1
Введение Соловьевым возможности абсолютного произвола
Соловьев поставил вопрос о свободе воли уже во введении к "Оправданию добра". В этом введении он затронул проблемы, которые, согласно его пониманию, предваряют нравственную философию, поэтому он не включил их в свою этическую теорию. Следует заметить, что у Соловьева в окончательном варианте труда "Оправдание добра" предлагаются разные варианты введений, ибо перед введением еще стоят предисловия первого и второго изданий, из которых особенно второму, названному "Нравственный смысл жизни в его предварительном понятии", можно приписать характер введения. Настоящее введение же носит заглавие "Нравственная философия как самостоятельная наука". Это такого рода введение, в котором Соловьев рассматривает проблемы, решения которых уже излагались в разных системах этики, но в понимании Соловьева приведенные проблемы не принадлежат к собственно нравственной философии. Однако нравственная философия предполагает эти проблемы, характеризующие разные степени приближения к настоящей, нравственной философии. Последней проблемой, которая представляет собой переход к нравственной философии, т.е. к первой главе "Оправдания добра", является вопрос о свободе воли, касающийся основного положения этики Канта, которого Соловьев считал самым важным предшественником своей нравственной философии.
О характере таких предварительных проблем нравственной философии надо добавить то, что они имеют раздвоенный характер, потому что, с одной стороны, они затрагивают действительные проблемы разных этических теорий, несмотря на то, что они не оказываются важными для основной задачи нравственной философии, поставленной Соловьевым, а, с другой стороны, они исключены из "настоящей" нравственной философии и, таким образом, они рассматриваются в качестве мнимых проблем нравственной философии. Такая двойственность обостряется в случае последней проблемы введения, когда поставлен вопрос о свободе воли. Вопрос о свободе воли считается вопросом, связанным в истории этики с именем Канта, ибо возникновение и решение этого вопроса ведет в самый центр этики Канта. Соловьев же занимался этим вопросом необходимым после этики Канта только во введении. Двойственность отношения Соловьева к вопросу о свободе воли выражается также и в его общем отношении к Канту, которое полагается во втором предисловии и во введении. Свое общее отношение к Канту и к дальнейшим главным направлениям философии Соловьев обрисовал во втором предисловии таким образом:
"Основатель ее (нравственной философии, автор) как науки, Кант, остановился на первом существенном признаке абсолютного добра - его чистоте, требующей от человека формально-безусловной, или самозаконной, воли, свободной от всяких эмпирических примесей: чистое добро требует, чтобы его избирали только для него самого; всякая другая мотивация его недостойна. Не повторяя того, что хорошо изложено Кантом по вопросу о формальной чистоте доброй воли, я обратился в особенности ко второму существенному признаку добра - его всеединству, не отделяя его от двух других (как сделал Кант относительно первого), а прямо развивая разумно-мыслимое содержание всеединого добра из тех действительных нравственных данных, в которых оно заложено. Получилось, таким образом, не диалектические моменты отвлеченной идеи (как у Гегеля) и не эмпирические осложнения натуральных фактов (как у Герберта Спенсера), а полнота нравственных норм для всех основных практических отношений единичной и собирательной жизни. Только такою полнотою оправдывается добро в нашем сознании, только под условием этой полноты может оно осуществить для нас и свою чистоту, и свою непобедимую силу".9
Однако, затрагивая вопрос о свободе воли, Соловьев проводил четкую грань между этикой Канта и его пониманием свободы воли. Разграничение выражается в том, что он считал вопрос о свободе воли не важным, может быть, даже мнимым, но ещё и плохо поставленным Кантом:
"Очень распространен взгляд, что судьба нравственного сознания зависит от того или другого решения вопроса о свободе воли. Вопрос сводят к альтернативе: или наши действия свободны, или они необходимы - и затем утверждают, будто второе из этих двух решений, именно детерминизм, или учение о том, что все наши действия и состояния происходят с необходимостью, делает невозможною человеческую нравственность, и тем отнимают всякий смысл у нравственной философии. Если, говорят, человек есть только колесо в мировой машине, то о каких же нравственных деяниях может быть речь? Но вся сила такого аргумента заключается в неправильном смешении детерминизма механического с детерминизмом вообще - ошибка, от которой не свободен сам Кант".
Но эта необходимость, всегда себе равная в своем общем понятии, видоизменяется, однако, в различных областях своего проявления, и по трем главным видам необходимости (относительно явлений и действий) мы различаем и три вида детерминизма: 1) механический, который, если бы он был единственным, действительно исключил бы нравственность, как такую; 2) психологический, допускающий некоторые нравственные элементы, но плохо согласимый с другими, и 3) разумно-идейный, дающий место всем нравственным требованиям во всей их силе и в полном объеме".11
Итак, по Соловьеву вопрос о свободе воли решается не тем, чтобы признать или не признать свободу воли, а именно утверждением разных степеней этой свободы, соответствующих главным формам детерминизма. В труде "Оправдание добра" Соловьев еще раз противопоставил себя пониманию свободы воли у Канта и критиковал скудость чисто формального принципа:
"Чтобы наша воля была чистою, или (формально) самозаконною, она должна определяться исключительно уважением к нравственному долгу, - это ясно, как то, что А равно А. Но почему требуется вообще это А? На чем основано требование именно "чистой" воли? Если я хочу получить чистый водород из воды, то, конечно, я должен удалить из нее кислород. Но если я хочу пить или умываться, то мне именно чистого водорода совсем не нужно, а требуется только его определенное соединение с кислородом Н20, называемое водою. В Канте, без сомнения, следует признать Лавуазье нравственной философии. Его разложение нравственности на автономный и гетерономный элементы и формула нравственного закона представляют один из величайших успехов человеческого ума. Но ведь дело не может ограничиваться здесь одним научным интересом. Кант говорит о практическом разуме как безусловном принципе действительного человеческого поведения, и тут его утверждения похожи на то, как если бы химик стал требовать или считал возможным, чтобы люди употребляли вместо воды чистый водород".12
Проблема критики Канта Соловьевым состоит именно в том, что он различает вещи, которые у Канта взаимно обусловливаются. Таким образом, выражается двойственность критики Канта Соловьевым. Можно понимать ее как творческое стремление к преодолению недостатков этики Канта при сохранении ее достижений в истории практической философии. Однако общее направление критики Канта Соловьевым оказывается не совсем новым в философском мышлении после Канта13, но надо обратить внимание на особенные акценты его критики.
Чувство стыда как нравственное самосознание
Однако надо заметить, что только такой структурой, созданной чувством стыда, возникает, на деле, понятие нравственности, потому что этой структурой в чистой форме полагаются основные определения и понятия нравственной деятельности и их взаимоотношения. Этим задается вообще философский корень чувства стыда, выражающийся именно в основоположении нравственной структуры, включая в себя возникновение особенного положения действительности, к которой одновременно относится и не относится нравственная деятельность (или нравственная субъективность).
В этом отношении возникает вопрос о продолжительности чувства стыда, которое не только связано с моментом проявления чувства стыда, но и с определенной ситуацией, включая особенное отношение к половому акту. Можно даже сказать, что Соловьев создал чувство стыда, чтобы оно полностью соответствовало его чисто философскому намерению. Философское значение чувства стыда утверждается определением особенного положения данной действительности, полагая основоположение нравственной субъективности. Однако это основоположение нравственной субъективности чувством стыда связывалось с данностью времени, с данным пространством и с определенными условиями, а поэтому ограничивается в данной действительности и оказывается не абсолютным. Итак, чувством стыда полагается какая-то относительная нравственная основа, приводя свое самоограничение также определением особенной данной действительности. Из этого требуется выводить нравственное чувство в нравственный принцип аскетизма, чтобы преодолеть ограниченности времени и пространства данной действительности созданием самостоятельной самобытной нравственной действительности.
Но, с другой стороны, ограниченность чувства стыда остается в рамках его собственной структуры. С этим связано то, что связь с данной действительностью времени и пространства не упраздняется, так что с этой точки зрения возникает относительность общей, созданной чувством стыда философской структуры. Следовательно, из-за этой относительности возникает двойственность в понимании нравственной философии Соловьева, в которой, с одной стороны, в последовательности что-то доказывается, а, с другой стороны, из-за относительности в отношении к данной действительности что-то только предполагается. Но такая относительность действительности, включенная в структуру нравственной философии, учитывает, на самом деле, проблему практической философии, которая намеревается оказать влияние на действительность, данной только определенными условиями времени и пространства. Поэтому не исключается, что каждая нравственная структура не только утверждается в соответствии с логикой мышления, но и оправдывается или не оправдывается относительностью данной действительности. Как данной действительности не удовлетворяют заключения мысли, так ей, может быть, уже хватает данной нравственной структуры и вообще не требуются никакие обобщения мысли. В обоих случаях данная действительность отклоняет выводы практической философии, во-первых, из-за не тождества мышления и бытия, и во-вторых, из-за уже созданного тождества мышления и бытия. Вследствие этого требуется такая структура нравственной философии, которая доказывает что-то, но при этом рассчитывает на то, что она лишь предлагает это.
Также у Соловьева можно заметить двойственное отношение к этике Канта, ибо он не совсем не отклонял его. Проблема состоит в том, что возражения Соловьева в направлении кантовской этики и ее категорического императива, на самом деле, относится не только к тому, насколько действительно добро оказывается осуществляемым на основе применения категорического императива, но и к тому, насколько вообще считается необходимым то, что практическая философия поднимается на самый всеобщий уровень, чтобы она могла осуществляться в действительности. Иными словами, вопрос состоит в том, насколько в виду конкретности нравственной действительности осуществлению добра мешает то, что Кант определил всеобщую разумную основу. Несомненно, Соловьев в определенной мере был убежден в последовательности кантовских заключений и даже в их применимости, поэтому он только наполовину их отрицал и сохранил характер его предложений в своей нравственной философии, относительно оправданных с точки зрения истории философии и не отвергнутых в нравственной философии, а также применимых в данной действительности.
Чтобы излагать связь чувства стыда с нравственным принципом аскетизма, следует сначала подчеркнуть отличие чувство стыда от чувства жалости, что касается нравственной субъективности. При этом такое отличие относится еще и к тому, как Соловьев понимал сущность обоих нравственных чувств, а это не исчерпывается тем, что стыд - нравственное чувство, относящееся к тому, что находится подо мной, а жалость (или сострадание) -чувство, относящееся к тому, что - рядом со мной. Что касается единства нравственного чувства и нравственного принципа, можно излагать это так, что Соловьев утвердил при указании на чувство жалости неотделимую связь этого чувства с действующим альтруизмом, чтобы представить чувство и действие только в единстве, но подобное единство чувства стыда и аскетизма он не объяснил. Важным оказывается здесь то, что чувство стыда отделяется от течения событий данной действительности и обусловливается как нравственное чувство. На самом деле, ради основоположения нравственной философии чувство стыда должно сохраниться отдельным в границах чувства, чтобы полагать в чистой форме основные нравственные понятия - человек, факт действительности, существование. С этой точки зрения, чувством стыда задано то, что подчеркивает самые общие нравственные определения. Но, с другой точки зрения, чувством стыда получаются противоположности, определенные только чувством стыда полового акта и не выдерживаемые стыдящимся человеком. Речь идет, прежде всего, о противоположности человеческого и животного. Именно эта противоположность человеческого и животного становится началом нравственного принципа аскетизма. Этим Соловьёв ссылается на всеобщее противоречие внутри человека, которое человеку внушает действовать, а при этом не только из-за противоречия, но и из-за обобщения этого противоречия, которое именно как внутреннее противоречие действующего человека получает разные выражения, например, как противоречие духовной и материальной природы. Соловьев объяснил значение этой общей внутренней противоположности для аскетизма таким образом:
"Основное нравственное чувство стыда фактически заключает в себе отрицательное отношение человека к овладевающей им животной природе. Самому яркому и сильному проявлению этой природы дух человеческий, даже на очень низких степенях развития, противопоставляет сознание своего достоинства: мне стыдно подчиняться плотскому влечению, мне стыдно быть как животное, низшая сторона моего существа не должна преобладать во мне, -такое преобладание есть нечто постыдное, греховное. Это самоутверждение нравственного достоинства - полусознательное и неустойчивое в простом чувстве стыда - действием разума возводится в принцип аскетизма".
Вследствие этого следует утверждать одно важное положение: Соловьев отмечал, то, что проявляется как животное, представляется по-разному, например как материальная природа, или даже материя вообще, или как низшая природа, а также как плоть или плотские влечения. С другой стороны, противоположности находятся не только между существованием в качестве человека или человеческого, но и духом или духовным, разумом или высшей природой. На самом деле, все эти понятия с обеих сторон противоположности естественно не совпадают и имеют разные значения, но совпадают в определенном отношении, ибо все они оказываются едиными в отношении к другой стороне противоположности. Таким образом, несмотря на то, что эти разные понятия с обеих сторон противоположности имеют разные оттенки, они отождествляется, поскольку они выражаются, прежде всего, в противоположности к другому и определяются не сами собой, а только в рамках противоположности. Концепцию аскетизма Соловьева можно оценить таким образом, что он поставил противоположность как абсолютную, а противоположности в отношении друг к другу как относительные.
Жалость как соединение чувства и разума
Чтобы глубже понимать функции трех основных нравственных чувств, следует обратить внимание на главу "Мнимые начала нравственности (Критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)". Можно сказать, что эта глава считается одной из важнейших частей "Оправдания добра", потому что здесь выражается какое-то общее отношение этого труда Соловьева к общим направлениям истории этики и к важным высказываниям прошлого. Прежде всего, Соловьев продолжает традиции кантовской этики с его противопоставлением долга и склонности (расположения), но он развернул проблему в другую плоскость. Противопоставление склонности и долга у Соловьева лежит не в области этики, а в опыте или в здравом смысле, что человек, как и животное, желает приятного или стремится к удовольствию, исключая всякие внешние требования. Таким образом, если человек как особенный человек живет, то он желает чего-то. Этот общий подход по Соловьеву характеризуется принципом эвдемонизма. Но как принцип эвдемонизм уже является принципом этики или практической философии. Преимущество этого принципа для этики Соловьев описал так:
"Этот эвдемонистический принцип (...) имеет то видимое преимущество, что он не вызывает вопроса почему } Можно спрашивать, почему я должен стремиться к нравственному добру, когда это стремление противоречит моим естественным влечениям и причиняет мне только страдания, но нельзя спрашивать, почему я должен желать своего благополучия, ибо я его и без того желаю по необходимости природы, - это желание нераздельно связано с моим существованием и есть его прямое выражение: я существую как желающий и желаю, конечно, лишь того, что меня удовлетворяет или что меня приятно. Всякий полагает свое благополучие или в том, что непосредственно причиняет ему удовольствие, или в том, что к этому ведет, т.е. служит как средство для доставления приятных состояний. Таким образом, благополучие определяется ближайшим образом чрез понятие удовольствия (...)."
Чтобы понять направление мышления Соловьева, следует сначала точнее выделить плоскость его противопоставления долга и склонности, ибо этот эвдемонистический принцип в этике он отклонил в дальнейшем ходе труда "Оправдание добра". Структура мысли у Соловьева образуется так, что он исходил из Я, которое желает чего-то, чтобы потом доказать несовместимость желающего Я и нравственного Я. Вследствие этого, нравственный долг и эмпирическая склонность ни в чем не совпадают. Чтобы подробнее определить отличие Соловьева от Канта, следует обсудить предпосылку Соловьева, насколько этот Я, желающий чего-то, разумеется сам собой. Соловьев подвергнул рассмотрению основу этого желающего Я: предметов или состояний далеко не всегда соответствует степени реальной приятности ощущений, ими доставляемых. Так, при сильном эротическом влечении к определенному лицу другого пола факт обладания именно этим лицом желается как величайшее блаженство, перед которым исчезает желательность обладания всяким другим лицом, между тем реальная приятность, доставляемая этим бесконечно-желательным фактом, наверное, ничего общего с бесконечностью не имеет и приблизительно равна приятности всякого иного удовлетворения данных инстинктов. - Вообще желательность тех или других предметов, или значение как благ, определяется не последующими субъективными состояниями удовольствия, а объективными взаимоотношениями этих предметов с нашею телесною или душевною природою, причем источники и свойства этих отношений большею частью не сознаются нами с достаточною ясностью, а обнаруживают лишь свое действие в виде слепого влечения. Но если удовольствие не есть сущность блага, или желанного как такого, то оно во всяком случае есть его постоянный признак."63
Здесь можно признать, что Соловьев сам допустил, что это отвлеченный желающий Я более или менее является какой-то конструкцией мышления. Проблема состоит в том, что желающий человек разделяет предметы своего желания по разным ценностям. Удовольствие или приятность ощущается не только как это удовольствие или эта приятность в настоящем моменте и в данном месте, а также как комплекс взаимоотношений разных удовольствий. Иными словами, никакое удовольствие не оказывается совсем отдельным, а можно понимать любое удовольствие в разных степенях, как ставшее и становящееся удовольствия одновременно. Таким образом, ощущение и ценность удовольствия изменяется постоянно с точки зрения действующего и ощущающего лица. Пример Соловьева из области эротики и любви разъясняет это в самые крайние варианты: с одной стороны, чрезвычайная любовь к определенному лицу выделяет предмет желания от массы желаемых предметов, и, с другой стороны, действительное эротическое влечение, может быть, особенным качеством не отличается от других влечений. На самом деле, разрешается констатировать только то, что всякое желаемое и действительное удовольствие зависит от взаимосвязи предмета и желающего Я, подлежащей разными внешними и внутренними условиями.
Какие выводы можно сделать из этой проблемы разнообразных определений желаемых удовольствий? Трудность этой проблемы не позволяет определить общую классификацию удовольствий с разных точек зрения. Из-за того, что невозможно отвергнуть того факта, что человек постоянно желает чего-то, требуется не избегать этой проблемы. Для разрешения проблему можно разделить на два общих направления: субъективное и объективное. Субъективное направление подчеркивает такой момент, что человек сам определяет целостную структуру удовольствий. В жизни встречаются разные оттенки удовольствий и приятностей, но чтобы их понимать как именно мои удовольствия и мои приятности, этот Я, как желающий чего-то, должен признать
Там же, стр. 209; или: Собр. соч., там же, стр. 148 их как действительно или справедливо мной желаемые удовольствия и приятности. Это не одно и то же дело. Суть дела в том, что человеку уже даны определенные требования жизни, хотя эти требования являются требованиями разного рода, например нравственного, естественного или другого рода, а все эти разнообразные требования более или менее смешаны с удовольствиями и приятностями. Иными словами, в человеке внешнее и внутреннее, т.е. внешнее требование и внутреннее ощущение, в результате выполнения требования трудно отличаются друг от друга. Поскольку человеку придется определить себя как этот желающий Я в жизни, ему надо признать то, что ему принадлежит как свое внутреннее, а, что оказывается ему чужым и внешним.
Эта проблема индивидуального определения стала в XIX веке проблемой практической философии, сохраняющейся и до сих пор в ней как одна из главных проблем. Вопрос состоит в том, как можно отличить внутреннее от внешнего, если, на самом деле, невозможно отделить целостность внутреннего состояния удовольствия и приятности от разнообразия внешних требований. При этом, надо учесть также тот момент, что иногда удовольствие проявляется только во взаимосвязи с какой-то необходимостью требований, и наоборот. Чтобы в рассмотрении проблемы не потерять плоскость желающего Я, можно выразить вопрос еще так: чего надо желать, чтобы желание оставалось именно моим желанием, или иначе: какое удовольствие считается действительно моим собственным удовольствием? Отречение от мира (например, у Шопенгауера) и "воля к власти" в философии Нитцше представляют примеры решения этой проблемы.
Что касается философии Ницше, "воля к власти" обозначает не обладанием самим собой, а обладанием желаниями и удовольствиями, чтобы обладать самим собой, как процессом разделения ценностей желаний и удовольствий. Иными словами, "воля к власти" требует, чтобы при сложности смещения необходимости и удовольствия восстанавливался и сохранялся основной желающий Я, который, именно как желающий положен не влиянием внешнего предмета, а обладает собой, определяя мнимость предмета желания, отклоняя или отвращаясь от него.
Однако вопреки этому Соловьев утвердил объективное направление этого желающего Я, говоря просто-напросто, что, несмотря на то, что желания и удовольствия подлежат разнообразному взаимоотношению желающего человека и предмета желания, образуется постоянный признак, выражающийся Я как желающим. Этим Соловьев полагал то, что с внешней точки зрения существуют лишь определенные чередующиеся действия желания. Таким образом, каждое действие желания включает в себя, с одной стороны, предмет желания и удовольствия и, с другой стороны, Я, желающего чего-либо. При этом все эти действия желания имеют также свое ограниченное пространство и отделяются по времени от другого действия желания, так как они чередуется. Для такого действия, само собой разумеется, что существует Я, желающий чего-то, и предмет желания и удовольствия. Это его постоянный признак. Следовательно, важным оказывается только то, что какое-то Я желает чего-то, а не то, что Я и предмет являются моментами или частями определенной связи или даже определенного взаимоотношения.
Критика благоразумного эвдемонизма
Итак, целость человека как сущность нравственности означает какую-то определенную, содержательную субъективность человека, отличающуюся от предположения отвлеченного единства нравственного субъекта. Человек считается целостным, поскольку в нем создается, сохраняется и укрепляется единство для того, чтобы нравственно действовать. В этом смысле, нравственное действие связано, в первую очередь, с основоположением какого-то внутреннего, содержательного и формального единства, которое отделяется от превосходства результатов нравственного, или вообще какого-то человеческого действия. Что касается результатов действия, можно приписывать их только благам, но не добру. Добро именно определяется каким-то внутренним самостоятельным нравственным единством человека, отличающимся от текущей практической действительности, в то время относящимся к ней. Отношение определяется таким образом, поскольку нравственная самостоятельность относится к какой-то данной практической самостоятельности. Этим отличием полагается главным образом целость человека как сущность нравственности. Итак, можно выделить целость человека в отношении к двум сторонам. С одной стороны, она отличается от отвлеченного противопоставления нравственно действующего человека данной практической действительности, чтобы этот нравственно действующий человек как единство себя сам определял перед нравственным действием, происходящим в практической действительности. С другой стороны, целость человека ограничивается достаточным расстоянием от практической действительности, чтобы содержательно и формально отделить нравственное действие от практической действительности, устраняя то, что нравственное действие включается совсем в практическую действительность.
Все-таки, следует добавить, что целость человека не значит просто-напросто какую-то практическую субъективность, определяя себя собственным и самостоятельным от данного мира предметом. Вообще говоря, Соловьев предполагает всегда такую практическую действительность, которая составляется данными практическими действиями человека, направленными на предмет желания или удовольствия. Итак, дан человек вместе со своими предметами, т.е. даны только разные субъективности, соответствующие предметам желания и способам их достижения. Отсюда вопрос поставлен о целости человека. Поэтому, проблема состоит в том, что целость человека не создается обобщением единства человека, данного вместе со своими предметами, а определением нравственной формальности как единственной возможности выделить человека из предметности. Эта формальность имеет такой скудный характер, что дана сначала только структура пространства типа внизу, рядом и вверху (чувства - стыд, жалость и благоговение). Таким образом, самым важным оказывается то, что возникает целость человека из единства общей формы и содержания, разрешая человеку действовать и с формальной точки зрения и с точки зрения предметности в практической действительности.
Если сравнить отношение к предметности в нравственной философии Соловьева с таким же в этике Канта, то следует обратить внимание на то, что у Канта основным отличием склонности от долга положено отделение предметов действия (дано в склонностях к чему-нибудь) от нравственного долга, определяющегося только в разуме, между ними находятся суждения, так что разум у Канта только суждениями относится к предметам действия человека. Содержание нравственности разум получает от суждений, которые сами являются произведениями определяющего характера рассудка. Склонности вычисляются из области суждений, потому что они имеют самостоятельность своим прямым отношением к предметам (или чувственности этих предметов). Поэтому на предметы желаний разум вообще не обращает внимания в своем самоопределении, только посредством суждений. Таким образом, у Канта остается, на самом деле, не затронутый разумом мир, лежащий в отдельности и независимости данным предметам, к которым относится человек со своими непосредственными и особенными желаниями, удовольствиями, наслаждениями, склонностями. Этот мир устраняется от области нравственности постольку, поскольку он не подчиняется самоопределению разума в отношении к суждениям, имеющим в виду предметы желаний и склонностей. Итак, получается таким образом, что человек разделяется на две стороны: с одной стороны, он, применяя формулы категорического императива, является совершенным нравственным субъектом, которому остается только правильно применить эти всеобщие формулы, чтобы постепенно осуществлять всеобщие требования разума и завершить мир нравственности, а, с другой стороны, он, желая просто-напросто чего-то, или угнетает свои желания ради утверждения нравственного мира, или он не может предотвращать своих желаний и склонностей. Вследствие того, существует мир предметов, не подпадающих под нравственные требования самостоятельного разума, а утверждающихся из-за необходимости отдельных желаний и склонностей. Сказать то, что эти предметы постепенно подпадут под нравственные требования, оказывается неправильным, потому что они только даны как отдельные предметы непосредственными желаниями и склонностями, но не как суждения относительно обобщенного характера. Иными словами, между отдельными предметами желания и суждения этих желаний нет никакой связи, чтобы получить общение между ними. Поэтому за нравственными целями возникает область предметов практической деятельности тем сильнее, чем достовернее разум утверждает свою абсолютную субъективную силу. Есть этот выше уже указанный вариант, угнетать эти предметы желания, или просто-напросто не обращать внимания на них ради нравственных целей, но, несмотря на игнорирование предметов желания, эти предметы непосредственного желания еще существует как такие, и не подчиняются нравственной необходимости. На самом деле, в этике Канта отсутствует место столкновения или общения нравственности и склонностей, потому что ясное отличие нравственности от склонностей предполагается в самим собой определяющемся разуме, но действительное противоречие их для практического действия не укрепляется. Этому уже служит сопоставление непознаваемой вещи самой по себе и обоснование познающему субъекту приписанных форм представлений (т.е. пространство и время) в "Критике чистого разума". Таким образом, уже там предположено, что устраняется тот факт, что каждый непосредственный предмет желания просто-напросто существует отдельно в пространстве и во времени, независимо от того, насколько условия представлений данности предмета (т.е. пространство и время) вне человека существуют или внутри человека предполагаются. Непосредственная связь человека с отдельными предметами желания означает то, что предмет дан неразрывной целостью и невозможно убрать от него какие-то человеку особенные способы представления. Таким образом, уже в трансцендентальной эстетике Кант создал фундамент для того, что возникает расстояние между предметом желания (или склонности) и непостижимой вещью самой по себе, которая существует совсем независимо от человека (т.е. именно независимо от желания человека). Эта вещь сама по себе соответствует самому собой определяющемуся разуму, на который предмет желания не имеет уже никакого влияния, потому что этот для желания действительный предмет уже совсем исключен с точки зрения разума.
Нравственная философия Соловьева вообще не оправдывает предмет желания, а поэтому нельзя сказать, что она в этом отношении стоит в прямой противоположности к этике Канта, но она пытается обосновать нравственность в действительном противостоянии к предмету желания, насколько это возможно в нравственной философии как теории в отличии от практической действительности. Одну из центральных ролей в обосновании практического столкновения предметности и разумности играет ясное отличие добра от блага. При этом следует добавить, что Соловьев создал свою нравственную философию в противоположности к ответу Гегеля на понимание предметности и разумности в философии Канта. Гегель именно строил весь мир из основного единства предметности и разумности в диалектическом развитии так, что предмет и разум постепенно и по очереди совпадают и потом не совпадают, но без возможности того, что противоположность предметности и разумности обобщается и получается какое-то практическое значение. Разум, в конце концов, поглощает всю предметность и теряет этим основу разумного практического действия человека. Поэтому, на самом деле, отличие добра и блага у Соловьева обосновывает и обобщает противоположность предметности и разумности для практической действительности, чтобы решить этот вопрос для практической действительности действующего человека. Таким образом, разумность утверждается только в связи с действием человека, который, как действующий, может быть только отдельным. При этом только он сам может основать свою разумность. Однако, в отличие от Канта, разумность определяется в столкновении с предметностью в отношении к практической действительности. Только в отношении к практической действительности противоречие предметности и разумности имеет значение, потому что только там все решается для преобладания разума. Итак, отличие добра от блага, выведенное до антиномии добра и блага, выражает противоположность предметности и разумности, потому что благо исходит из Я, желающего какого-то предмета, а в добре обосновывается самое ясное и достоверное субъективное начало человеческого действия. Благо и добро являются выражениями разумности и предметности в практической действительности, чтобы они там действительно общались друг с другом. Таким образом, тождество добра и блага (как блаженство) в религии приписывается, на самом деле, практической действительности, так что это тождество Соловьев не основал метафизическими ссылками.

Аннотация.
Статья посвящена выяснению методологических оснований для сравнительного исследования этики Канта и Достоевского. До сих пор среди исследователей творчества великого русского писателя нет консенсуса по вопросу о том, был ли Достоевский знаком, хотя бы в общем, с философией Канта. Автор прибегает к анализу широкого круга литературы, посвященной теме "Достоевский и Кант", а также к анализу и реконструкции концепций тех, в общем-то, немногочисленных мыслителей, которые в наибольшей степени могли повлиять на Канта и Достоевского, а также поспособствовать знакомству Достоевского с философией Канта. Обосновывается тезис о разработке Достоевским особого философско-литературного метода для осмысления нравственных феноменов, что делает возможным реконструкцию философии Достоевского на основе его художественных произведений и, следовательно, непосредственное сопоставление этики Канта и Достоевского. Кроме того, автор поддерживает и обосновывает идею Н. Н. Вильмонта о том, что Достоевский был знаком с основными идеями философии Канта через Шиллера. В заключительной части автор обосновывает тезис, согласно которому и этика Канта, и нравственная философия Достоевского имели по крайней мере один общий источник влияния - философию Ж.-Ж. Руссо. Все это вместе позволяет автору сделать вывод о методологической обоснованности сравнительного анализа этики Канта и Достоевского.
Ключевые слова: Кант, Достоевский, Шиллер, Шопенгауэр, Руссо, этика, эстетика, моральный абсолютизм, литература, сравнительный анализ
10.7256/2409-8728.2016.11.2030
Дата направления в редакцию:
09-09-2016
Дата рецензирования:
07-09-2016
Дата публикации:
15-11-2016
Abstract.
This article is dedicated to the determination of methodological ground for comparative research of the ethics of Kant and Dostoyevsky. The researchers of Dostoyevsky creative works have not yet come to a consensus on the question of whether or not Dostoyevsky was familiar with Kant’s philosophy, at least in general. The author carries out an analysis of a broad circle of literature on the topic “Dostoyevsky and Kant”, as well as reconstruction of the concepts of a few thinkers, who could affect Kant and Dostoyevsky, as well as contribute to the introduction of Dostoyevsky to Kant’s philosophy. The work substantial the thesis about the formulation of a peculiar philosophical-literary method by Dostoyevsky for cognition of ethical phenomena, which makes possible the reconstruction of Dostoyevsky’s philosophy based on his compositions, and thus, direct comparison of Dostoyevsky’s ethics with Kant’s ethics. The author also supports and explains the idea of N. N. Vilmont that Dostoyevsky was familiar with the fundamental ideas of Kant’s philosophy through F. Schiller. In conclusion, the author underlines that Kant’s ethics and Dostoyevsky’s ethical philosophy had at least one common source of influence consisted in the philosophy of Jean-Jacques Rousseau. All of these together allows making a conclusion about the methodological substantiation of comparative analysis of the ethics of Kant and Dostoyevsky.
Keywords:
Comparative analysis, Literature, Moral absolutism, Aesthetics, Ethics, Rousseau, Schopenhauer, Schiller, Dostoyevsky , Kant
Введение
Каждая нормативно-этическая теория стремится к установлению общего «знаменателя», точнее, критерия, посредством которого можно отделять добро от зла. Очевидно, что этот критерий должен быть универсальным, вневременным, объективным. То есть обладать абсолютным характером. Поэтому нормативная теория вынуждена обращаться к метафизике в широком смысле этого слова. К сожалению, это зачастую приводит к растворению этики в общей онтологии и, как следствие, окончательной утрате абсолютистского
вектора в морали. Но в истории культуры есть и обратные ситуации, когда метафизика и онтология выводятся из этики как высшей инстанции. Думается, что по своей внутренней интенции такой подход гораздо больше соответствует логике самой морали, поскольку требует оправдания бытия, самой жизни с высоты исключительно абсолютных нравственных ценностей.Ранее автор этих строк в специальном исследовании попытался прояснить проблемный контекст понятия абсолютности в этических концепциях Канта и Достоевского
, что сделало возможным типологизацию абсолютной этики и описать условия, при которых возникает потребность акцентирования абсолютности как специфической черты морали. Также удалось продемонстрировать возможность подобного сравнения в рамках гораздо более узкой и специфичной темы — проблемы теодицеи . Задачей же данной статьи является более подробный разбор и исследование тех факторов, которые деляют возможным сравнительное исследование этики Канта и Достоевского с методологической точки зрения.Этику И. Канта и нравственно-философскую концепцию Ф.М. Достоевского нередко «обвиняют» в склонности к абсолютизму. Однако чтобы понять что же именно подразумевал Кант и что понимал Достоевский под понятием абсолютности, необходимо в первую очередь ответить на вопрос: как возможно и возможно ли вообще сопоставление «сухаря-теоретика» Канта и «жестокого таланта» русской литературы Достоевского? Неужели можно сравнивать точность и академическую строгость философского языка Канта с «цветущей сложностью» и метафорической многозначностью художественного языка Достоевского? Безусловно, эта тема может казаться маргинальной, но если задаться целью разобраться в проблеме более глубоко, то в защиту возможности и даже настоятельной необходимости такого исследования можно собрать достаточно веские аргументы.
Таким образом, первая и самая очевидная трудность заключается в том, что Кант художником не был. Следовательно, вопрос может быть конкретизирован следующим образом: может ли Достоевский быть назван философом? И если ответ положительный, то тогда возможность подобного сравнительного анализа окажется обоснованной.
О философско-литературном методе Достоевского
Романы Достоевского считаются новаторскими не только по форме, способу изображения действительности, мастерскому построению сюжета, но еще и по тому невиданному ранее идейному насыщению и высокой интеллектуальной интенсивности, с которой происходит осмысление важнейших проблем религии, философии и морали. Литературоведы всего мира считают Достоевского основоположником так называемого «интеллектуального» романа, предтечей Т. Манна, Г. Гессе, У. Эко, А. Мердок. Как отмечает Р. Лаут, «все они (романы Достовского - Г. М.) вращаются вокруг философских теорий, которые представлены и живут в одном или нескольких персонажах. Носители философской идеи стараются последовательно эту свою идею продумать и в соответствии с результатами строить свою жизнь и свое поведение. И сама жизнь показывает, куда она может завести, и художник прослеживает при этом взаимодействие идей, целей и поведения в их столкновениях»
.Важной особенностью художественного стиля Достоевского, как отмечал Бахтин
, является полифоничность его произведений. В отличие от более раннего типа романа, автор предоставляет каждому персонажу - носителю той или иной идеи - право высказаться до конца. Без цензуры и с беспрецендентной честностью. Это, конечно, не означает, что у Достоевского отсутствовала собственная позиция по каждой из проблем, рассмотренных в его романах. Просто Достоевский старался быть всегда предельно последовательным и честным по отношению к своим идеологическим противникам, проникая в суть их аргументации иной раз даже глубже, чем они сами.Однако новаторство Достоевского состоит не только в создании новой романной формы, но и в появлении нового типа философствования. Каждый его роман — это один большой мысленный эксперимент, проверяющий (примеривающий) ту или иную нравственно-философскую идею на практике
. При этом само развитие, прорастание идеи требует «додумывания» её до конца, что нередко приводит к очевидному абсурду или абсолютной нравственной неприемлемости (фальсификации). Подобный метод позволяет Достоевскому погрузиться в глубины человеческого сознания, не прибегая к излишней объективации и не превращая человека в некий абстрактный трансцендентальный субъект, препарированный и методично разложенный на элементы. Создание подобного метода философствования, возведение литературы в ранг философского метода - достижение Достоевского именно как философа.Конечно, художественной литературе обычно не свойственна методологическая рефлексия, поэтому глупо было бы ждать от Достоевского логической точности, ясности суждений или выверенности формулировок. Суть метода Достоевского состоит как раз в критике подобного чисто умозрительного, абстрактного метода, в сознательном отказе от него. Научный метод не применим к человеку, поскольку человек не «фортепьянная клавиша», а его воля не повинуется закону «дважды два равно четыре». Поэтому выбор именно художественного метода литературы как более адекватного в качестве способа постижения логики нравственного сознания − скорее всего, глубоко продуманный и осознанный шаг писателя.
Достоевский предпочитает исходить из конкретности морального сознания, его погруженности в свой, как сказал бы Гуссерль, «жизненный мир». Как отмечает В. Г. Безносов, «художественное воображение как способ познания имеет неоспоримую ценность для развития этической теории, поскольку в художественном творчестве этические идеи как бы проходят испытание через предметно-личностное и конкретно-ситуционное воплощение» .Отличительной чертой подобного литературно-философского метода является преодоление чисто утилитарного отношения к языку, которое до сих пор бытует среди философов. В этом смысле язык художественной литературы за счет развитой системы тропов и метафор может быть понят как своеобразный «метаязык», с помощью которого иногда удобнее обсуждать чисто философские проблемы, а сама художественная литература тогда превращается в полноценный метод философствования. И тогда не исключено, что некоторые философские проблемы доступны к постановке и обсуждению только в рамках художественной литературы, понимаемой именно как философский метод.
Следует отметить, что разработанный Достоевским художественный «метаязык» не похож на тот формализованный метаязык логики, который пытались изобрести с нуля логические позитивисты. Не похож он и на метаязык Хайдеггера, с помощью которого тот пытался анализировать экзистенциалы бытия. Однако метаязык Достоевского создавался не для построения онтологий и формальных исследований, а для обсуждения этических проблем. И, на наш взгляд, именно философско-литературный метод Достоевского, обладающей потрясающей универсальностью, позволяет успешно и адекватно исследовать сложный внутренний мир человека.
Впрочем, Достоевский не чужд и чисто исследовательскому подходу. Чтобы убедиться в этом достаточно прочитать «Записки из подполья», где новый реализм Достоевского достигает точки своего наивысшего развития. Даже по форме первой части произведения, где Достоевский тщательно и достаточно объективно воспроизводит аргументы противоположной стороны, а затем приводит контрдоводы и контраргументы, можно наглядно убедиться в родственности подобного метода рациональному философскому дискурсу.
Художественный метод Достоевского позволяет без каких-либо натяжек экстрагировать из его художественных произведений глубочайшие философские идеи, что, в свою очередь, предполагает возможность реконструкции этической системы великого русского писателя.
Тема «Достоевский и Кант» в литературоведении
Конечно, тема сопоставления этических взглядов Канта и Достоевского в науке представлена весьма скудно, тем не менее, здесь уже успели сложиться несколько подходов, что, хоть и косвенно, но доказывает правомерность подобного сравнения. Первая и наиболее известная работа, посвященная сравнительному анализу творчества Канта и Достоевского —
м онография Э. Я. Голосовкера «Достоевский и Кант» , вышедшая в 1963 году с подзаголовком «Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума». Эта работа не претендует на академическую строгость и носит, скорее, литературно-критический характер. Голосовкер утверждает, что Достоевский был знаком с трактатом Канта, ссылаясь при этом на письмо Достоевского брату из Омска, в котором он просит прислать ему экземпляр «Критики чистого разума». До сих пор остается неизвестным - получил ли ту посылку Достоевский… Однако Голосовкер полагает, что «читателю незачем даже прибегать к изучению биографии писателя, чтобы убедиться в его знакомстве с Кантом. Текст романа и текст «Критики чистого разума» — здесь свидетели достоверные» . Удивляет, тем не менее, весьма узкое поле для сравнения таких масштабных фигур как Кант, и Достоевский - «Братья Карамазовы» и «Критика чистого разума». Да, действительно, в «Братьях Карамазовых» достаточно часто встречаются отсылки к первой «Критике» Канта, но не только и не столько к ней. Следует отметить и дискуссионный характер многих высказанных Голосовкером идей. Главный тезис состоит в том, что в этом романе Достоевский якобы «вступил в смертный поединок с Кантом». Впрочем, другие исследователи с такой оценкой взаимоотношений Канта и Достоевского не согласны , справедливо полагая, что у них гораздо больше общего, нежели считал Голосовкер.Несмотря на ряд необоснованных утверждений, работа Голосовкера «Достоевский и Кант» важна как «первая ласточка»; именно Голосовкер впервые предпринял попытку сопоставления русского мыслителя и немецкого философа.
Следующим шагом в исследовании данной темы стала монография В. В. Вильмонта «Достоевский и Шиллер»
, в которой автор весьма убедительно доказывает, что даже при отсутствии неоспоримых доказательств того, что Достоевский читал «Критику чистого разума», философия Канта была известна ему «окольным путем» — благодаря знакомству с творчеством Шиллера. Ведь Шиллер считал себя учеником и поклоником Канта. Если Голосовкер пытался представить Канта и Достоевского как соперников и чуть ли не антагонистов, то Вильмонт показывает, что Достоевский весьма точно воспринял основные идеи Канта через посредничество Шиллера и, адаптировав для своих нужд, развил их. «Во всяком случае многие мотивы кантовой философии ожили в его романах и прочно вошли в систему его мышления» . Однако остается открытым вопрос не вы разилось ли это посредничество Шиллера на некотором искажении кантианства в понимании Достоевского.В целом, работа Н. Н. Вильмонта, несмотря на то что главной задачей было сравнение творчества Достоевского и Шиллера, оказала очень большое влияние на развитие темы «Кант и Достоевский».
В 1982 году выходит рецензия М. Михайлова на книгу Голосовкера, в которой автор солидаризируется с Голосовкером в противопоставлении Канта и Достоевского, полагая что в «Братьях Карамазовых» Достоевский вступил в поединок с «чертом» — Кантом и «рассекретил» его
. Однако сам Михайлов подошел к проблеме чересчур поверхностно, если не сказать легкомысленно. «Самое оригинальное в книге Голосовкера, — пишет автор рецензии, — то, что он показывает, что Достоевский видит решение не в снятии кантовских антиномий, как это сделал Кант, провозгласив Иллюзию Разума, не в отрицании антитезиса, а в принятии антиномичности жизни» . При этом с другим - весьма важным для Голосовкера — положением, что Достоевский был хорошо знаком с «Критикой чистого разума», Михайлов не соглашается. Ведь это утверждение базируется лишь на известном письме Федора Михайловича, где он просит брата прислать ему эту работу в Омск. Михайлов отмечает, что «никаких других упоминаний о Канте в письмах или черновиках Достоевского мы не находим. … Во всяком случае, думается, что следы чтения автором "Братьев Карамазовых" книги Канта остались бы в биорафии писателя и в записках современников. Тем более, что "Братья Карамазовы" написаны незадолго перед смертью. Символом атеистической науки для Достоевского всегда был французский ученый Клод Бернар: " Бернары проклятые". Канта же Достоевский нигде и ни разу не упомянул» .Следующей в развитии темы «Кант и Достоевский» стала статья О. Н. Осмоловского «Этическая философия Достоевского и Канта»
. В самом начале статьи автор позволяет себе уверенно утверждать, что «наиболее основательные духовные связи у него (Достоевского - Г.М.) установились с немецкой классической философией и, прежде всего, с этикой Канта» . Доказательство? Да все то же письмо Достоевского брату.Рассматривая моральную философию Канта, Осмоловский акцентирует внимание на понятии и значении свободы, подчеркивая ее противоречивый характер. Действительно, проблема свободы оказывается центральной темой не только этики, но и всей философской системы Канта: от решения этой проблемы во многом зависит подход Канта к обоснованию абсолютности морали и к рассмотрению проблемы зла. Можно согласиться с положением Осмоловского, что «эмпирический мир, как мир необходимости, Кант полностью исключает из сферы морали, основанной на принципе свободного выбора»
. Однако тезис относительно того, что Кант, доказывая автономию воли, будто бы «по существу отрицает свободный выбор и, следовательно, моральное значение и оценку поступка» , вызывает некоторое недоумение. В завершение автор повторяет распространненое, однако ошибочное мнение о том, что Кант чересчур идеализирует рассудок-разум (судя по всему, сам Осмоловский не различает эти столь принципиально разные для Канта понятия) и дает, на наш взгляд, слишком поверхностный отзыв на его этику: «Кант лишь обозначил возможный конфликт между рассудочным (курсив мой - Г. М.) долгом и эмоциональной склонностью и не раскрыл «механику» его преодоления» .Анализируя этические воззрения Достоевского, Осмоловский, вслед за Голосовкером и Михайловым, утверждает, что в романе «Братья Карамазовы» Достоевский ведет ожесточенную полемику с Кантом. Но в отличие от Голосовкера, Осмоловский основное внимание, как и в разделе о Канте, уделяет проблеме свободы. Конечно, сопоставление этики Канта и Достоевского через призму проблемы свободы вполне оправданно и продуктивно. Однако Осмоловский не замечает, что сама проблема свободы является лишь частным случаем гораздо более объемной проблемы абсолютности морали, которая находится в эпицентре моральной философии как Достоевского, так и Канта.
Следующий этап в исследовании темы «Кант и Достоевский» связан с монографией Е. Черкасовой «Достоевский и Кант: беседы об этике» . Удачно сочетая компаративный метод и системный подход, автор делит область исследования на ряд глобальных тем. На наш взгляд, это способствует более глубокому и пристальному исследованию этики Канта и Достоевского, позволяя в то же время не увязать в подробностях и не размывать предмет анализа.
Начинает свое исследование Черкасова с попытки доказательства самого факта знакомства Достоевского с философской системой Канта. Кстати, этот момент подвергается сомнению некоторыми современными кантоведами, например, А. Н. Кругловым . Черкасова приводит ряд косвенных свидетельств того, что Достоевскому были известны по крайней мере общие положения кантовского учения. Так, в семье Достоевского читались вслух «Письма русского путешественника» Карамзина, где содержалось взятое у Канта во время путешествия автора по Пруссии в 1789 году подробное интервью.
Подход Черкасовой интересен тем, что она впервые обратила внимание не на полемику между Кантом и Достоевским, а на совпадение их взглядов по таким вопросам как соотношение долга и добродетели, свободы и зла, чувства и разума. Мысль весьма примечательная, так как показывает спектр различных интерпретаций взаимоотношений философских проектов Достоевского и Канта. Однако говорить о проблеме синтеза идейного наследия Канта и Достоевского, на наш взгляд, вряд ли возможно - слишком разные и стиль и метод философствования. У Канта этика, хоть и занимает главенствующее положение, является системообразующим, но все-таки элементом общей философской системы. У Достоевского же все его идейное и философское наследие сводится, по существу, к этике. Кроме того, Достоевский философских трактатов не писал, так же как и Кант не создал ни одного романа. Поэтому их сопоставление требует специальной подготовки как в области философии, так и в области литературы или хотя бы литературоведения.
Читал ли Достоевский Канта?
Итак, можно с высокой долей уверенности констатировать, что в настоящее время в исследовательской среде отсутствует консенсус не только по вопросу о влиянии философских взглядов Канта на Достоевского, но даже относительно степени знакомства Достоевского с философской системой Канта. Градус скептицизма колеблется от непризнания самого факта знакомства Достоевского с основноми положениями философии Канта (Круглов), не говоря уже о трех «Критиках», до полной уверенности в том, что Достоевский внимательно читал и хорошо разбирался в кантовском наследии (Голосовкер, Осмоловский). Между этими «крайностями» находится умеренная позиция, которая предполагает возможность сопоставления философских взглядов Канта и Достоевского, несмотря на отсутствие доказательств того, что Достоевский все-таки читал какие-то работы Канта (Черкасова, Вильмонт, Михайлов). Думается, что именно последняя позиция по данному вопросу выглядит наиболее продуктивной. Ведь у нас нет доказательств того, что Достоевский читал (или не читал) трактаты Канта - в сущности, не это главное. Главное — есть ли корреляции в их этических взглядах. А присутствие или отсутствие этой корреляции можно определить, лишь изучая текст, а также — применительно к романам Достоевского - контекст. И такое изучение согласуется с нашим предположением о наличии такой корреляции.
Однако в научной среде нет единства и по вопросу о взаимоотношении философских взлядов Достоевского и Канта. Одни исследователи - среди них Голосовкер, Михайлов и Осмоловский — считают, что Достоевский и Кант антагонисты, жестко противостоящие другу другу. Другие полагают, что в этике Достоевского кроме полемики (кстати, возможно не столько и не только с Кантом) есть и много общих для двух мыслителей идей. Мы присоединяемся ко второй, умеренной позиции и ниже попытаемся показать, что этические взгляды Канта и Достоевского не только пересекаются по ряду вопросов, но и имеют также общие интеллектуальные корни.
Общеизвестным является факт тесного общения Достоевского в течение многих лет с такими яркими представителями русской философии как Н. Ф. Федоров и В. С. Соловьев. Канту и рецепциям кантианской философии посвящено довольно много страниц «Кризиса западной философии» — книги Соловьева, которая имелась в личной библиотеке Ф. М. Достоевского, также как и «Критика отвлеченных начал» того же автора . Дружба и взаимовлияние двух крупнейших русских мыслителей достигает своего пика как раз в период работы Достоевского над «Братьями Карамазовыми». Безусловно, Достоевский мог познакомиться с идеями Канта и раньше, и не через Соловьева, который, кстати, достаточно критично относился к немецкому философу. Помимо Соловьева, который в этот период входил в круг общения писателя, Достоевский поддерживал дружеские отношения с протоиереем И. Л. Янышевым, доктором богословия и профессором Санкт-Петербургской духовной академии, достаточно глубоко изучившим философские работы Канта. Однако если бы Достоевский хотел высказать свое отношение к идеям Канта, то вероятнее всего он мог бы сделать это именно в последнем своем романе, что в какой-то степени оправдывает столь узкий спектр для сопоставления двух мыслителей, выбранный Голосовкером.
И здесь, вероятно, стоит отметить, что тема «Достоевский и Шопенгауэр» гораздо более популярна среди исследователей творчества писателя, чем «Достоевский и Кант». По крайней мере,
некоторые исследователи уверенно говорят о том, что Достоевский благодаря тому же Соловьеву был неплохо знаком с идеями Шопенгауэра и его последователей и даже сознательно полемизировал с ними на страницах своих романов . А ведь Шопенгаур всегда подчеркивал, что считает именно Канта величайшим философом всех времен, а себя — его учеником. Кроме того, еще «в 70-е годы, когда создавались главные сочинения Достоевского, он был близок со Страховым, как раз когда тот занимался Шопенгауэром» — отмечают А. В. Гулыга и И. С. Андреева, но тут же оговариваются, что конкретных указаний о знакомстве Достоевского с творчеством Шопенгауэра нет. Хотя в так называемом «Списке II » — списке книг Достоевского, подготовленной А. Г. Достоевской в 1880-е гг. с целью продажи, в разделе «Книги, взятые Ф. Ф. Достоевским», упоминается и «Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра .К
ак известно, о снователь философии пессимизма считал «философию художественным произведением из понятий». Очевидно, подобный подход, так же как и некоторые философские идеи Шопенгауэра, могли бы импонировать Достоевскому, если бы он и в самом деле читал «Мир как воля и представление», что, однако, все же маловероятно. Тем не менее, Шопенгауэр с полным правом может быть отнесен к списку тех источников, по которым Достоевский мог составить себе представление, хотя и самое общее, о философии Канта.Кант - Шиллер - Достоевский
Но если вопрос о том, читал ли Достоевский Шопенгауэра и Канта остается все еще открытым, то несомненным представляется факт знакомства Достоевского с текстами Шиллера. Сравнительно недавно тема влияния Канта на Достоевского через Шиллера была поднята в статье Дирка Кемпера
, хотя уже в самом названии статьи — «Братья Карамазовы» против Шиллера и Канта. К деконструкции немецкого идеализма в исповеди горячего сердца в стихах Дмитрия Карамазова» — всячески подчеркивается критическая позиция Достоевского по отношению к великим немцам, и этим негативизмом статья Кемпера чем-то напоминает книгу Голосовкера.Однако первая полноценная разработка идеи о влиянии Канта на Достоевского через посредническую миссию Шиллера, горячо любимого Достоевским с юности, принадлежит, как уже упоминалось, Н. Н. Вильмонту, поэтому я бы хотел сосредоточиться именно на его интерпретации. «Достоевский был прежде всего
художником (здесь и далее - курсив Вильмонта - Г. М.) и мог увлечься отвлеченными идеями только на примере художника, духовно ему близкого, а таким был для него создатель «интеллектуальной драмы» и «интеллектуальной» (философской) лирики Шиллер» . Сам Вильмонт упоминает также работу Наторпа , где впервые высказывалась возможность подобной корреляции.Какие же идеи Канта мог воплотить Шиллер в своем творчестве? Во-первых, это идея антиномичности и неполноты рационального познания. Противоположность братьев Моор - ожившая антиномия чистого разума. Они - Карл и Франц — изначально разные, в конце словно меняются своими жизненными принципами и равно терпят крушение. Карл Моор, утверждавший тезис о существовании божественной справедливости и абсолютной самодостаточности морали, приходит в итоге к антитезису, оправдывающему его кровавые деяния. Таким образом «обе "системы мышления" — правдоискателя Карла и аморалиста Франца - оказались равно гибельными для каждого из них и к тому же - теоретически и практически - равно несостоятельными» .
Во-вторых, значимой для Достоевского могла оказаться кантовская идея красоты, выраженная в двух категориях - возвышенного и прекрасного, как связующая нить между истиной и добром. Шиллер же размышлял об этом в «Письмах об эстетическом воспитании человека». Известно, что Кант одобрил эту работу Шиллера, поскольку суть красоты раскрывается Шиллером через понятие игры. Вообще Шиллер, также как и Кант, чрезвычайно высоко оценивал значение игры не только в эстетическом плане, но и для познания природы человека в целом. Отсюда и две его знаменитые формулы: «Человек должен только играть красотою, и только красотою одною он должен играть… Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком, лишь тогда, когда играет» . Объективное и субъективное, духовное и материальное опосредуется именно в игре. В понятии игры отражается двойственность, амбивалентность красоты как категории, связывающей неразрывно добро и зло. Игра — это процесс, некая временная длительность, структурированная и упорядоченная в соответствии с правилами рассудка.
В творчестве Шиллера нашел свое применение и кантовский принцип целесообразности, который мыслится основным принципом эстетической способности. Шиллер полагал, что понятие прекрасного субъективно, лишено интереса, поэтому, в отличие от приятного, прекрасное обладает способностью нравиться безусловно.
Но у Канта и Шиллера были и некоторые расхождения во взглядах. Так, в своей «Критике способности суждения» Кант замкнулся на проблеме опосредования теоретического и практического разума, тогда как «общий пафос шиллеровской эстетики заключался в попытке найти в понятиях прекрасного и возвышенного способ решения принципиальных общественных и культурных проблем, преодоления сложившегося кризиса. Согласно Шиллеру, это можно сделать только с помощью искусства»
.Шиллер весьма критически отнесся к кантовской трактовке разума как критерия нравственной ценности поступка, что выразилось в знаменитой эпиграмме:
Ближним охотно служу, но - увы! - имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
Нет другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг!
При этом эстетика у Шиллера теснейшим образом связана с этикой, немыслима без неё. Красота - залог нравственной свободы человека. Субъективное и объективное начала в человеке не должны противоречить или подавлять друг друга, поэтому свобода есть такое состояние духа, в котором разум и чувственная природа гармонично сочетаются. С позиции идеи достоинства человека, а также следуя идеалам романтизма, Шиллер отвергает любое насилие, в особенности насилие разума над склонностями, насилие человека над самим собой. Именно поэтому кратчайший и самый благородный путь к этике лежит через эстетику, а становление моральной личности («прекрасной души», по Шиллеру) должно достигаться через эстетическое воспитание.
В таком контексте убежденность Достоевского в высочайшем значении и роли идеи красоты для этики, выражающей гармоничное сочетание разума и чувства, оказывается естественным продолжением шиллеровской эстетики. Для героев Достоевского согласие разума с чувственностью, следование моральному долгу «по склонности», то есть естественно, а не в виде несения каторжных вириг, становится идеальной этической формулой. Однако не надо забывать, что философские воззрения Шиллера формировались под сильнейшим воздействием Канта. Так, решение центральной проблемы философии Шиллера — соотношение частного и всеобщего с помощью способности суждения как посредника между этикой и гносеологией — принадлежит именно Канту. Достоевский же, на русский манер, эту кантовскую идею о красоте как посреднике, расширяет до синтеза истины и добра. Вот почему именно красота «спасает» мир.
Руссо - Кант - Достоевский
Однако кроме Шиллера, ставшим своеобразным «мостом» между Кантом и Достоевским, у кенигсбергского затворника и русского мыслителя были и другие общие истоки их философских взглядов. В первую очередь, это богатое литературное и философское наследие Жан-Жака Руссо. Кант читал и очень хорошо знал Руссо. В его время даже ходил анекдот, что однажды Кант так увлекся чтеним «Эмиля», что не вышел на свою ежевечернюю прогулку, чем встревожил соседей, сверявших часы по его прогулкам. Несомненно, во взглядах Руссо было много притягательного для Канта. Во-первых, идея о независимости морального чувства как от религии, так и от физиологии человека. Во-вторых, мысль о ценности добродетели самой по себе. Руссо писал: «Есть, значит, в глубине душ врожденное начало справедливости и добродетели, в силу которого, вопреки нашим собственным правилам, мы признаем свои поступки и поступки другого или хорошими, или дурными; это именно начало я называю совестью»
. Несмотря на то, что аналогичные идеи высказывались и до Руссо, вероятнее всего именно он, а также Хатчесон и Шефтсбери, стали теми философами, кто заставил Канта задуматься относительно идеи незаинтересованности и надыиндивидуальности морали.Соглашался Кант с Руссо и в оценке значения философии французских материалистов и просветителей; особенно критиковал Руссо Гольбаха и Гельвеция за оправдание ими принципа пользы и личной выгоды как критериев моральности поступка.
Но были у Канта и достаточно существенные расхождения со взглядами Руссо. Например, по вопросу о природе морального долженствования. В этике Руссо выступает как критик холодного разума, противопоставляя им искренность и теплоту чувств. Руссо, мировоззрение которого формировалось в острой полемике со сторонниками «разумного эгоизма», полагал, что принцип самолюбия находит в разуме мощное орудие удовлетворения своих стремлений, в то время как «голос совести — это голос чувства, защищающего общественный интерес» . Поэтому совесть - это «божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, верный путеводитель существа темного и ограниченного» . Такое сильное недоверие к разуму указывает на то, что философия Руссо испытала существенное влияние не только континентальной школы скептицизма, в частности, Монтеня и Шаррона, но и британско-шотландской традиции Шефтсбери, Хатчесона и Юма. Руссо искренне полагал, что знание того что есть добро ещё не означает быть добрым: «Узнать добро - не значит полюбить его; но коль скоро разум знакомит его с благом, совесть заставляет любить это благо; это именно чувство и есть врожденное» .
Но Руссо был далек от идеализации чувственной природы человека, как, впрочем, и природы вообще. Он признавал, что кроме врожденного морального чувства, в ней есть место и для врожденного эгоизма. Таким образом в человеке борются два принципа, антагонистичных по своей природе - принцип справедливости и принцип себялюбия. Именно поэтому человек, в понимании Руссо, существо раздвоенное, как бы застрявшее между миром внутреннего нравственного чувства, где царит свобода, и миром грубых чувств и страстей, полностью детерминированных природой. Трудно не согласиться с Т. Б. Длугач: «именно из подобной двойственности вырастут антиномии практической философии И. Канта, только он превратит нравственное чувство (естественное чувство совести) в прирожденное веление разума» .
Но и в произведениях Достоевского ощущается влияние Руссо. Вероятно, именно благодаря знакомству с произведениями Руссо Достоевский «заразился» скептицизмом по отношению к рационалистической этике. Вспомним страстную диатрибу героя «Записок из подполья» против философии разумного эгоизма! Разве не слышны тут аргументы Руссо, высказанные им в полемике с Гольбахом и Гельвецием? Кстати, и сама исповедальная форма «Записок…», и стиль, эпатирующий откровенностью, явно перекликаются со знаменитой «Исповедью» Руссо. Жанр исповеди как литературный прием будет неоднократно использован Достоевским - в признании Раскольникова Соне, в исповедях Зосимы, Ставрогина (глава «У Тихона»), Версилова, в рассказе «Приговор», в признании «сладострастного насекомого» Дмитрия Карамазова брату Алеше.
Вообще Руссо ассоциировался у Достоевского с «женевскими идеми», с абстрактным человеколюбием и секулярной добродетелью, а потому его философия выражала для него противоречия всей западной цивилизацией, утратившей свои религиозные и нравственные идеалы. «Исповедь» Руссо, как, кстати, и знаменитое полотно Гольбейна «Мертвый Христос», становится для него своеобразным символом упадка и духовного разложения просвещенной европейской личности.
В рассказе «Сон смешного человека» Достоевский вновь возвращается к руссоистской утопии естественного состояния . Главный герой говорит, что совратил обитателей рая ложью - это прямая отсылка к руссоистской критике общественного состояния человечества. Как отмечает В. И. Иванов, «внушения, воспринятые от Руссо, предрасположили ум юноши и к первым социалистическим учениям; он осудил потом последние, но первоначальных впечатлений от Руссо забыть не мог, не мог забыть грезы о естественном рае близких к природе и от природы добрых людей, золотой грезы, которая еще напоминает о себе - и тем настойчивее, чем гуще застилают ясный лик неискаженной жизни больные городские туманы - и в «Сне смешного человека», и в «Идиоте», и даже, как ни странно сказать, в некоторых писаниях старца Зосимы» .
Но есть проблемы, по которым позиции Достоевского и Руссо совпадают. В частности, это проблема морального долженствования. Несмотря на очевидную непоследовательность и противоречивость этики Руссо, его негативная оценка роли разума в морали, вероятно, предопределила и позицию Достоевского по этому вопросу. При этом Достоевский - в отличие от Руссо - увидел в амбивалентности разума не только имморальность и ограниченность, но расширил эту амбивалентность на всю мораль, осознал противоречивость и двойственность самой нравственной свободы. Вернуться в безгрешное состояние Эдема, как мечталось Руссо - невозможно, поскольку человек немыслим вне морали, а мораль, в свою очередь, немыслима вне свободы как постоянного выбора между добром и злом. Свобода выбора - врожденное свойство человека, неотъемлемое от его человеческой сути. В этом смысле мораль задает границы человеческого существования как такового. Здесь Достоевский как нельзя более сближается с Кантом.
Не надо забывать, что и Достоевский, и Кант были «сынами» века Просвещения; сам дух Просвещения с его гуманистическим пафосом и лозунгами освобождения человека от опеки церкви и государства оказал на них колоссальное влияние. Тем не менее, к «женевским идеям» и Кант, и Достоевский относились неоднозначно, осознавая необходимость их критического переосмысления. Однако проблема свободы оказалась тем смысловым центром, вокруг которого формировались их философские взгляды. В зависимости от постановки именно проблемы свободы зависит решение других социально-этических вопросов, многие из которых решались великими просветителями односторонне, в духе вульгарного материализма или разумного эгоизма. Осмысление границ свободы повлекло за собой уточнение роли и места разума в системе познавательных и психических способностей человека, новой постановки проблемы обоснования морали, иного понимания личности и индивидуальности. Помимо этого размышления о свободе с необходимостью влекли за собой поиск оптимального баланса между субъективным и объективным, частным и всеобщим.
Многие «перекосы» эпохи Просвещения, обусловленные необходимостью избавления человечества от ряда социальных предрассудков и стереотипов, унаследованных еще от Средневековья, вызывали и у Канта, и у Достоевского явное раздражение. Известно, что степень неприятия религии вообще и христианства в частности, просветителями колебалась от атеизма до нейтралитета. Однако и Кант, и Достоевский, пытаясь найти новое понимание свободы на основе абсолютного морального закона, пришли к необходимости позитивного отношения к христианству как моральной религии. Следует также отметить, что, критикуя идеалы эпохи Просвещения, Кант и Достоевский подвергали десакрализации и деабсолютизации прежде всего сам разум, начало чему было положено еще Руссо. Однако делали это по-разному. Так, Кант, низводя разум с того пьедестала, на который его возвели якобинцы, развенчал его спекулятивные метафизические притязания с тем, чтобы утвердить на новой - моральной - основе. Достоевский же, переняв благодаря Шиллеру сам критический пафос Канта, занял позицию последовательного антирационалиста, в том числе и в этике. Однако по своему универсалистско-абсолютистскому пониманию морали Достоевский при этом оказался достаточно близок к Канту.
Итак, несмотря на то, что достоверных свидетельств знакомства Достоевского с работами Канта нет, их этические взгляды вполне могут быть сопоставлены. Философские мировоззрения Канта и Достоевского, при всем их различии, имеют и общие корни. Это подтверждается значимостью для Достоевского не только художественных, но и философских работ Шиллера, которые во многом по своему духу были кантианскими. Кроме того общий проблемный источник их философских взглядов можно увидеть в особенности постановки вопроса о свободе в трактатах Канта и романах Достоевского, что во многом определялось задачей обоснования абсолютной морали.
Библиография
| . |
Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М.: Молодая Гвардия, 2003. 367 с. |
| . |
Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев: Next, 1994. С. 9-179. |
Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2 М., "Мысль", 1988.-- (Филос. наследие. Т. 105). КАНТ (Immanuel Kant, первонач. Cant) -- основатель философского критицизма, представляющего главную поворотную точку в истории человеческой мысли, так что все развитие философии если не по содержанию, то по отношению мысли к этому содержанию должно быть разделено на два периода: до-критический (или до-кантовский) и после-критический (или после-кантовский). Согласно его собственному сравнению (с Коперником), Кант не открыл для ума новых миров, но поставил самый ум на такую новую точку зрения, с которой все прежнее представилось ему в ином и более истинном виде. Значение Канта преувеличивается лишь тогда, когда в его учении хотят видеть не перестановку и углубление существенных задач философии, а их наилучшее и чуть не окончательное решение. Такая завершительная роль принадлежит Канту на самом деле только в области этики (именно в "чистой" или формальной ее части), в прочих же отделах философии за ним остается заслуга великого возбудителя, но никак не решителя важнейших вопросов. Биография Канта не представляет никакого внешнего интереса. Он провел всю свою жизнь, преданный исключительно умственному труду, в том же Кенигсберге, где родился (22 апр[еля] 1724 г.) и умер (12 февр[аля] 1804 г.). Отец его был небогатый мастер седельного цеха. Семья отличалась честностью и религиозностью в пиэтистическом духе (особенно мать). Такой же дух господствовал и в той школе (collegium Fredericianum), где Кант получил среднее образование (1733--1740). Директор этой коллегии пастор Ф. А. Шульц был в то же время проф[ессор] богословия в Кенигсбергском универ[ситете], куда Кант поступил на богословский факультет. Пиэтистическое воспитание, несомненно, оставило след у Канта в общем характере и тоне его жизнепонимания, но не давало удовлетворения умственным запросам, рано возникшим в его несоразмерно развитой голове. Помимо богословских лекций он с увлечением изучал светские науки, философские и физико-математические. Окончание курса совпало со смертью его отца (1746), принуждавшею его искать средства к существованию. Девять лет провел он домашним учителем в трех семействах, частью в самом Кенигсберге, частью в недалеких поместьях. Умственное развитие Канта шло от точных знаний к философии. Самостоятельным философом он стал поздно" лишь к 45-летнему возрасту, но гораздо ранее заявил себя как первостепенный ученый. В 1755 г. он издал (анонимно) свою физико-астрономическую теорию мироздания ("Allgemeine Naturgeschichte u Theorie des Himmels" 1), которую в сущности лишь повторил Лаплас через несколько десятилетий. Эта теория, которую называют кант-лапласовскою, но по справедливости следовало бы называть кантовскою, остается общепринятой в науке. До сих пор имеют значение и другие, меньшие сочинения естественнонаучного содержания, изданные Кантом около того же времени (1754--1756): об огне, о вращении Земли вокруг ее оси, об одряхлении Земли, о землетрясениях 2 . В 1755 г. Кант сделался приват-доцентом философии в Кенигсб[ергском] универ[ситете] и только через 15 лет, на 47-м году жизни, получил место ординарного профессора логики и метафизики, защитив диссертацию "De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis" 3 (1770). [Раньше этого, во время занятия Кенигсберга русскими войсками, открылась вакантная кафедра философии, которую желал занять Кант, но русский губернатор утвердил, по старшинству, другого кандидата) 4 . Из философских трудов Канта названное соч[инение] -- первое, где он является оригинальным мыслителем, с новым и важным взглядом именно на субъективный характер пространства и времени. Незадолго перед тем, как видно из одного письма, он задумал еще другое небольшое сочинение: "О границах человеческого познания", которое предполагал издать в том же году, но оно появилось лишь через 11 лет, после того как разрослось в "Критику чистого разума" (1781). В следующие 12 лет вышли и все другие главные сочинения Канта в области философии: "Prolegomena zu einer jeden künftigen Methaphysyk die als Wissenschaft wird auftreten können" (1783), где Кант в другом порядке излагает сущность своей критики познания; "Grundlegung zur Methaphisyk der Sitten" (1785); "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft" (1786); "Kritik der praktischen Vernuft" (1788); "Kritik der Urtheilskraft" (1790); "Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft" 5 (1793). Из мелких сочинений кроме упомянутой латинской диссертации значительный философский интерес имеют: "Идея всеобщей истории" (1784), "Вечный мир" (1795), "Обуспехах метафизики со времени Лейбница и Вольфа" (1791), "О философии вообще" (1794), "Спор факультетов" (1798). Меньший интерес представляют "Грезы духовидца" (1766) -- сочинение до-критической эпохи, написанное под влиянием Давида Юма; предмет его -- видения и теории Сведенборга, к которому Кант относится крайне скептически, хотя одна из основных мыслей шведского мистика -- об идеальности пространства и времени -- отразилась в латинской диссертации Канта, а потом и в "Критике чистого разума" (это более чем вероятное предположение нисколько не колеблется сердитой бранью Куно Фишера в его полемике с д-ром Тафелем 6). Кроме сочинений Кант много действовал и как преподаватель. Несмотря на слабость голоса, его лекции своей содержательностью и оригинальностью привлекали значительное число слушателей. Кроме логики и метафизики он читал курсы математики, физики, естественного права, этики, физической географии, антропологии, рационального богословия. Лекции по этому последнему предмету он вынужден был прекратить вследствие внешнего давления. В царствование Фридриха II, когда министром народного просвещения и духовных дел был слушатель Канта фон Цедлиц, наш философ пользовался особым благорасположением правительства, но с воцарением Фридриха-Вильгельма II это отношение изменилось, особенно когда преемником Цедлица был назначен клерикал-реакционер Вёльнер. Сочинение о "Религии в пределах одного разума" вызвало крайнее неудовольствие начальства, и Кант получил (в 1794 г.) королевский указ, начинавшийся так: "Прежде всего посылаем вам милостивый привет, наш достойный и высокоученый любезный верноподданный! Наша высочайшая особа уже давно с великим неудовольствием усмотрела, что вы злоупотребляете своей философией для извращения и унижения некоторых главных и основных учений Св. Писания и христианства". Далее говорилось, что в случае упорства Кант должен "неизбежно ожидать неприятных распоряжений". Кант отвечал, оправдывая свою точку зрения, и заявлял в заключение, что в качестве верноподданного он обещается в лекциях и сочинениях своих вовсе не касаться религии, как естественной, так и откровенной. Вскоре после этого он отказался и от других приватных лекций, ограничившись обязательным курсом логики и метафизики, а в 1797 г., чувствуя приближение дряхлости, совсем прекратил преподавание. Он думал остаток жизни посвятить начатому им обширному труду, который должен был содержать энциклопедию всех наук, но ослабление умственных способностей не позволило ему продолжать это сочинение, оставшееся в отрывках. Не дожив двух месяцев до 80 л[ет], Кант умер от старческой немощи. Личность и жизнь Канта представляют совершенно цельный образ, характеризуемый неизменным преобладанием рассудка над аффектами и нравственного долга над страстями и низшими интересами. Поняв свое научно-философское призвание как высшую обязанность, Кант безусловно подчинил ей все остальное. В силу ее он победил даже природу, превратив свое слабое и болезненное тело в прочную опору самой напряженной умственной энергии. Весьма склонный к сердечному общению, Кант находил, что семейная жизнь мешает умственному труду,-- и остался навсегда одиноким. При особой страсти к географии и путешествиям он не выезжал из Кенигсберга, чтобы не прерывать исполнения своих обязанностей. По природе болезненный, он силой воли и правильным образом жизни достиг того, что дожил до глубокой старости, ни разу не быв болен. Потребностям сердца Кант давал необходимое удовлетворение в дружбе с людьми, которые не мешали, а поддерживали его в умственной работе. Главным другом его был купец Грин, который с большими практическими способностями соединял такое умственное развитие, что вся "Критика чистого разума" прошла через его предварительное одобрение. Дружбой оправдывалась и единственная плотская слабость, которую позволял себе Кант: он любил удовольствия стола в небольшом обществе друзей. Но и это стало возможно для него только во второй половине жизни, когда он достиг ординатуры и когда сочинения его стали давать доход, а до 1770 г. он получал всего 62 талера в год. Впоследствии его экономическое положение улучшилось настолько, что он мог делать сбережения, на которые купил дом. Впрочем, он был совершенно свободен от скупости и корыстолюбия. Когда министр фон Цедлиц предлагал ему кафедру в Галле с двойным жалованьем, он отверг это выгодное приглашение. Узнав, что сын одного его друга основывает книжную торговлю, он, чтобы поддержать его, предоставил ему за бесценок издание своих сочинений, отказавшись от несравненно более выгодных условий других книгопродавцев. Эстетическое развитие Канта было значительно ниже умственного и нравственного. Он понимал отвлеченно значение красоты, но живого интереса эта область в нем не возбуждала. Из искусств он всего более находил вкус в кулинарном, составлявшем любимый предмет его разговоров с женщинами; в поэзии он уважал только дидактику; музыку не мог терпеть, как навязчивое искусство; к пластическим художествам был совершенно равнодушен. Эта скудость эстетической стихии вполне понятна у нашего философа. Его призвание было -- провести всюду глубочайшее разделение между идеальной формой и реальным содержанием бытия, а их нераздельное единство есть сущность красоты и искусства. Учение о познании Канта. Каким образом можем мы познавать находящиеся вне нас и от нас независимые вещи или предметы? Этот вопрос, не существующий для наивного, непосредственного сознания, но составляющий главную задачу всякой философии, ставится и решается Кантом с особым глубокомыслием и оригинальностью. Наш ум может познавать предметы потому, что все познаваемое в них создается тем же умом по присущим ему правилам или законам; другими словами, познание возможно потому, что мы познаем не вещи сами по себе, а их явление в нашем сознании, обусловленное не чем-нибудь внешним, а формами и категориями нашей собственной умственной деятельности. Издревле признавалось в философии, что чувственные качества предметов -- цвета, звуки, запахи -- обусловлены как таковые ощущающим; но от этих чувственных, или вторичных, качеств отличались первичные качества, или определения, как, напр[имер], протяженность, субстанциальность, причинность, которые считались принадлежностями вещей самих по себе, независимо от познающего. Кант первый систематически и научно показал, что и эти "первичные" определения обусловлены познающим умом, но не в его эмпирических состояниях (как чувственные свойства), а его априорными или трансцендентальными актами, создающими предметы как такие. К этой идее Кант подходит посредством формального разбора того, что есть познание. Познание вообще состоит из суждений, т. е. из такого соединения двух представлений, в котором одно служит предикатом (сказуемым) другого (А есть В). Но если всякое познание состоит из суждений, то нельзя сказать, наоборот, что всякое суждение есть познание. Значение настоящего познания принадлежит только таким суждениям, в которых связь субъекта и предиката: 1) представляется всеобщей и необходимой и 2) полагает нечто новое, не содержащееся в понятии субъекта, как его признак. Суждения, удовлетворяющие только одному из этих двух требований, но не отвечающие другому, не составляют познания (в научном смысле этого слова). Одному первому условию удовлетворяют суждения аналитические, например тело есть нечто протяженное -- это суждение достоверно a priori, оно есть всеобщая и необходимая истина, но лишь потому, что предикат протяженности уже содержится в самом понятии тела, следовательно, ничего нового этим суждением не сообщается. Напротив, одному второму требованию удовлетворяют суждения синтетические a posteriori, например длина этой улицы -- 377 саж. или сегодняшняя температура воздуха = 2° R. Такие суждения сообщают нечто новое, ибо число саженей и градусов ее может быть выведено аналитически из представления данной улицы и дневной температуры; но зато зги суждения выражают только единичные эмпирические факты, лишенные всеобщего и необходимого значения и потому не составляющие истинного познания. Для образования этого последнего остается, таким образом, лишь третий род суждений, именно такие, которые, чтобы быть всеобщими и необходимыми, должны быть априорны, подобно суждениям аналитическим (ибо данные a posteriori факты, сколько бы их ни набирать, отвечают только за себя и из них никак нельзя извлечь всеобщего и необходимого закона); но при этой априорности они должны -- в отличие от аналитических суждений -- сообщать новое содержание, т. е. быть синтетичными. Такие синтетические суждения a priori действительно существуют в науке, как в чисто математической, так и в естествознании или физике (в широком смысле древних). Когда мы говорим, что сумма 789 и 567 есть 1356, то мы высказываем истину всеобщую и необходимую; мы заранее уверены, что всегда и в применении ко всем предметам сумма утих чисел остается необходимо тою же самою; следовательно, это есть суждение априорное, однако оно не есть аналитическое, ибо число 1356 вовсе не есть признак, логически содержащийся в понятии чисел 789 и 567, вместе взятых; чтобы получить из этих двух третье число, нужно было совершить особый мысленный акт сложения, давший новое число, следовательно, это есть синтетическое суждение a prior i . Точно так же в геометрии положение, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, хотя a priori, т. е. независимо от всякого опыта, достоверно, однако не выводится аналитически, ибо понятие краткости расстояния не содержится как признак в понятии прямизны; следовательно, и это есть синтетическое суждение a priori. Наконец, в естествознании если все так называемые законы природы суть нечто большее, чем простое констатирование единичных случаев, чаще или реже повторяющихся, то они обязаны своим значением лежащему в их основе положению причинности, которое устанавливает между явлениями всеобщую и необходимую связь; но основоположение чесе явления имеют свою причину" есть, во-1-х, априорное, независимое от опыта (ибо опыт не может обнимать всех явлений), а во-2-х, оно полагает нечто такое, что из данного порядка явлений аналитически выведено быть не может (ибо из того, что некоторые явления происходят в известной временной последовательности, нисколько не вытекает, что одно есть причина другого); следовательно, это основоположение есть синтетическое суждение a priori, а чрез него тот же характер принадлежит и всему чистому естествознанию, которого задача есть установление причинной связи явлений. Точное определение того, в чем и из чего состоит познание, приводит к решению вопроса: как возможно познание, или -- что то же -- как возможны синтетические суждения a priori? Чтобы синтетическое соединение двух представлений имело априорный, а потому всеобщий и необходимый характер, требуется, чтобы это соединение было определенным и правильным актом самого познающего субъекта, т. е. чтобы он обладал способностью и известными способами соединять или связывать эмпирический материал единичных ощущений, которые сами по себе еще не дают никакого познания. Они могут стать предметом познания лишь чрез деятельность самого познающего ума. И действительно, наш ум, во-1-х, приводит все данные ощущения в некоторый наглядный или воззрительный (anschaulich) порядок в формах времени и пространства, или создает мир чувственных явлений, а во-2-х, эти чувственные явления он связывает умственно по известным основным способам понимания (категории рассудка), создающего мир опыта, подлежащий научному познанию. Время и пространство не могут быть ни внешними реальностями, ни понятиями, отвлеченными от данных в опыте свойств или отношений вещей. Первый наивный взгляд на время и пространство как на самобытные реальности вне нас, по справедливому замечанию Канта (в лат[инской] дисс[ертации]), принадлежит к области баснословия (pertinetad mundum fabulosum), второй же, по-видимому более научный, взгляд подробно опровергается нашим философом. Настоящую силу всей его аргументации дает та несомненная истина, что всякий, даже самый элементарный, опыт мыслим только при различении моментов и мест, т. е. предполагает время и пространство, которые, будучи таким образом непременными условиями всякого опыта, не могут быть продуктами никакого опыта; самая попытка эмпирического объяснения этих форм чувственности возможна только при двояком, довольно грубом недоразумении: при отождествлении их самих с отвлеченным понятием о них и затем при смешении самого времени и пространства с частными временными и пространственными отношениями, как если бы кто-нибудь вопрос о происхождении зоологического вида "лошадь" смешивал, с одной стороны, с вопросом о происхождении отвлеченного понятия "лошадь", а с другой стороны, с родословной тех или других экземпляров конской породы. Психофизическая генеалогия времени и пространства предполагает притом кроме самого времени и пространства еще определенную животно-человеческую организацию, т. е. некоторое чрезвычайно сложное временно-пространственное явление. Если, таким образом, время и пространство не могут быть ни внешними предметами, ни отвлеченными от внешнего опыта понятиями, то -- заключает Кант -- каждое из них может быть лишь чистым воззрением (intuitus purus, reine Anschauung), т. е. априорной, субъективной и идеальной формой или как бы схемой (veluti schema), необходимо присущею нашему уму и обусловливающею для него правильную координацию чувственных данных; другими словами, это суть два основные условия воззрительного синтеза чувственности, совершаемого нашим умом. Все состояния нашего субъекта без исключения являются как моменты одного и того же времени (что возможно только в силу априорной природы этой формы), некоторые же из них определяются как части одного и того же пространства (что также предполагает субъективный, априорный характер пространственного воззрения). Из этого различия вытекает противоположение внутренних явлений, связанных во времени, но не в пространстве, и внешних, связанных не только во времени, но и в пространстве,-- противоположение лишь относительное и, с точки зрения Канта, не вполне объяснимое (см. ниже критику учения). В чем бы, впрочем, ни состояло неведомое (с этой точки зрения) последнее основание, в силу которого некоторые из наших чувственных состояний объективируются и представляются как внешние вещи, а другие, напротив, всецело сохраняют свой субъективный характер, тот начальный способ, которым первые полагаются как внешние предметы, т. е. самое представление вне-бытия, или пространственное воззрение, есть во всяком случае, так же как и время, собственный, ни от чего постороннего не зависящий, чистый и трансцендентальный акт самого познающего субъекта. Благодаря этой априорно-синтетической природе времени и пространства возможна математика как настоящее познание, т. е. образуемое из синтетических суждений a priori. Числа суть априорные, но вместе с тем воззрительные акты сложения (Zusammensetzung) во времени; геометрические величины суть такие же априорные и воззрительные акты сложения в пространстве. Подлежать счислению и измерению, т. е. находиться во времени и пространстве, есть всеобщее и необходимое (потому что a priori полагаемое) условие всего чувственного, вследствие чего и учение свое о времени и пространстве Кант назвал трансцендентальной эстетикой (от αἴσϑησις -- чувство, ощущение). Но кроме воззрительной математической связи чувственных фактов мы постигаем еще их связь рассудочную, или логическую. Так, мы полагаем, что один факт есть причина другого; в сложном ряде изменений мы различаем преходящие элементы от пребывающих; мы утверждаем, что при таких-то условиях данный факт возможен, а при таких-то необходим и т. д. Если бы такая связь была связью вещей самих по себе, то мы не могли бы ее познавать так, как познаем; ибо, во-1-х, нельзя понять, каким образом нечто пребывающее вне нас и не зависящее от нас может войти в нас и сделаться нашим понятием; во-2-х, если бы и возможно было такое реальное воздействие внешнего предмета на субъект для произведения познания, то это воздействие в каждом случае было бы только единичным фактом, и такой же фактический (эмпирический) характер имело бы и происходящее отсюда познание. Положим, мы могли бы воспринимать два реальные предмета в их объективной, независимой от ума связи -- это давало бы нам право утверждать, что они связаны между собою во всех тех случаях, когда мы их воспринимали; но случаи, хотя бы и многие, не содержат в себе того признака всеобщности и необходимости, которым отличаются законы от фактов и который действительно находится в нашем естественнонаучном познании. Наконец, в-3-х, самое представление внешних предметов, связанных между собою так или иначе и различным образом действующих друг на друга и на нас,-- самое это представление сложного, вне-бытия уже предполагает формы пространства и времени, которые, как доказано в трансцендентальной эстетике, суть идеальные субъективные воззрения, а следовательно, и все, что в них находится, существует не вне познающего субъекта, а лишь как его представление. По всем этим причинам те принципы или основные законы, которыми связываются чувственные явления и создается мир научного опыта, суть собственные априорные действия нашего рассудка по присущим ему понятиям. Основные способы, которыми наш рассудок соединяет или слагает между собою предметы своего познания, выражаются в формах суждения, представляющих то или другое сочетание между субъектом и предикатом. Это сочетание бывает четырех родов, из которых в каждом возможны по три случая. I. Когда предикат выражает объем субъекта, то этот последний может находиться под своим предикатом или как единичный экземпляр, или как часть рода, или как целый род: таким образом, суждения по количеству бывают единичные, особенные и всеобщие, откуда 3 категории количества: 1) Единство, 2) Множественность и 3) Всеобщность. II. Когда (со стороны содержания) предикат мыслится как признак, содержащийся в субъекте, то этот признак может или утверждаться, или отрицаться, или, наконец, исключаться таким образом, что за субъектом оставляются всякие другие признаки, кроме одного этого; отсюда три формы суждения по качеству: утвердительные (А есть В), отрицательные (А не есть В) и бесконечные (А есть не В), чему соответствуют три категории качества: 4) Реальность, 5) Отрицание и 6) Ограничение. III. Помимо количества и качества суждений форма их определяется еще отношением между субъектом и предикатом в том смысле, что последний или усвояется первому безусловно, как его принадлежность, или же субъект указывается как условие предиката (если есть А, то есть В), или, наконец, они сочетаются таким образом, что предикат представляется разделенным на несколько видов, чрез один из которых связывается с ним субъект (напр., данный организм есть или растение, или животное). Таким образом, мы имеем суждения безусловные, или изъявительные (категорические), затем условные (гипотетические) и, наконец, разделительные; соответствующие им категории отношения будут: 7) Субстанция (и принадлежность), 8) Причина (и действие), 9) Взаимодействие, или общение. IV. При всяком сочетании субъекта с предикатом, каково бы оно ни было по количеству, качеству и отношению, остается еще вопрос: представляется ли это сочетание как только возможное, или же как действительно существующее, или, наконец, как необходимое? Другими словами: означает ли связка (copula) данного суждения, что А может быть В, или же, что А есть В, или, наконец, что А должно быть В (в общем смысле müssen). С этой точки зрения суждения бывают проблематические (сомнительные), ассерторические (уверительные) и аподиктические (обязательные), чему соответствуют три категории модальности: 10) Возможность, 11) Действительность или существование и 12) Необходимость. Эти основные понятия (категории или предикаменты), из которых легко выводятся некоторые другие общие понятия, как, напр., величина, сила и т. п., служат, далее, для определения коренных истин, обусловливающих опытное познание или естественную науку; Кант называет эти последние основоположениями чистого рассудка (см. ниже). Но чтобы с помощью всех этих формальных принципов можно было создать из чувственных данных единую природу или единый мир опыта, всеобщего и необходимого как в частях, так и в целом, нужно прежде всего, чтобы все отдельные и частные отправления рассудка (вместе со всеми воззрительными актами в сфере чувственной) относились к единому самодеятельному сознанию как общей синтетической связи всех чувственных и рассудочных элементов познания. Поскольку все сводится к закономерному соединению или сложению представлений, ясно, что кроме правил соединения требуется еще само соединяющее действие. Во-1-х, соединяемые представления должны быть выделены или схвачены в своей особенности ("аппрегендированы"); но так как соединение нескольких представлений невозможно в самом акте "аппрегензии" каждого из них, а между тем все они должны быть налицо при соединении их, то требуется, во-2-х, способность воспроизведения (Reproductio) уже "схваченных" представлений при новом акте их соединения, и, в-3-х, как ручательство того, что воспроизводимые представления суть те же самые, какие были прежде схвачены, необходим акт узнавания (Recognitio), который возможен только в том случае, если субъект схватывающий, воспроизводящий и узнающий представления остается одним и тем же или себе равным. Сознание ("апперцепция") предмета как такого, т. е. известного, определенного и закономерного синтеза представлений, возможно только при единстве самосознания, т. е. когда субъект неизменно сохраняет свое внутреннее безусловное тождество: Я=Я (Кант называет это "синтетическим единством трансцендентальной апперцепции" и другими подобными именами). Единство самосознания достаточно объясняет возможность синтетических познавательных актов вообще. Единое сознание, действуя как производительное воображение (в отличие от вышеупомянутого воспроизводительного), создает из чувственных восприятий, посредством воззрительных форм, цельные образы предметов; оно же, в своем дискурсивном или рассудочном действии, создает связь явлений по категориям. Но предметы действительного опыта имеют зараз и чувственный и умственный характер, суть вместе и воззрительные образы, и носители рассудочных определений. Каким же способом эти две нераздельные и, однако же, противоположные стороны нашего мира сходятся между собою, каким способом категории прилагаются к чувственным явлениям или эти последние подводятся под категории для произведения действительных предметов опыта? Два противоположные термина, как чувственность и рассудок, для соединения своего требуют чего-нибудь третьего. Третье, между чувственным образом и чистым понятием, Кант находит в так называемых им схемах, которые он выводит из природы времени. Время, как мы видели, есть чистое воззрение и основная общая форма всех чувственных явлений, но вместе с тем в нем заключены четыре рода мысленных определений, дающих соответственные схемы для всех категорий, образуя, таким образом, связующие звенья или как бы некоторый мост между чувственным и умственным миром. Во времени как форме чувственных явлений мы различаем, во-1-х, продолжительность или величину, т. е. число моментов или равных единиц, что дает схему количества; во-2-х, содержание или самое временное бытие, то, что наполняет время,-- это дает схему качества (именно, наполненное время -- схему реальности, пустое время -- схему отрицания); в-3-х, явления находятся в различном временном порядке относительно друг друга, чем даются схемы отношения, а именно или одно явление пребывает, когда другие проходят (отсюда схема субстанции и акциденций), или одно следует за другим (схема причины и следствия), или все они существуют в одно время (схема взаимодействия или общности); в-4-х, явление во времени существует или когда-нибудь (схема возможности), или в определенный момент (схема действительности), или во всякое время (схема необходимости). Представляя чувственные явления по этим схемам, чистое воображение в каждом случае указывает рассудку на приложимость той или другой из его категорий. Если, таким образом, действительные предметы нашего опыта -- все то, что мы называем миром явлений или природой,-- состоят из произведений чистого воображения, связываемых рассудком в силу соответствия между вообразительными схемами явлений и его собственными категориями, то ясно, что коренные истины (аксиомы) опытной науки, или естествознания, могут быть только основоположениями чистого рассудка, т. е. должны иметь априорный характер. Хотя рассудок по существу своему оперирует только посредством понятий, но благодаря схематизму его понятиями обнимаются и действительные предметы, т. е. воззрительно-чувственные явления. Т[аким] обр[азом], природа определяется рассудком с четырех сторон: со стороны воззрительной формы явлений, чувственного их содержания, существенной связи их между собою и связи их с нашим познанием. Как находящиеся во времени и пространстве, чувственные явления суть воззрения и в этом смысле определяются первым основоположением рассудка, которое Кант называет "аксиомою воззрения" и которое гласит: все воззрения суть экстенсивные величины, т. е. всегда состоят из однородных частей, в свою очередь слагающихся из таких же частей, и т. д. до бесконечности,-- другими словами: чувственные явления как величины делимы до бесконечности, и, следовательно, никаких атомов не существует; это основоположение, очевидно, соответствует категории количества. Содержание свое явления получают от ощущений; хотя внутреннее свойство ощущений как особых состояний ощущающего субъекта есть нечто непосредственно данное и не подлежит определению a priori, существует, однако, некоторое непременное условие или общий способ всякого ощущения, определяемый рассудком в его втором основоположении, гласящем: во всех явлениях ощущение и соответствующая ему в предмете реальность (realitas phaenomenon) имеет интенсивную величину, т. е. степень. Ощущение не слагается из однородных частей или единиц, как воззрение, но оно может постепенно убывать или возрастать в своей силе. Это основоположение, которое Кант называет "предварением восприятия" 7 , соответствует категории качества. Связь явлений со стороны их отношения друг к другу определяется общим принципом, гласящим: все явления по своему бытию подчиняются a priori правилам, определяющим их отношения между собою во времени. Эти правила, определяющие отношения явлений, Кант называет "аналогиями опыта" 8 . Соответствуя категориям отношения, они суть следующие: 1) при всякой смене явлений субстанция пребывает и количество ее в природе не увеличивается и не уменьшается (это основоположение соответствует категорической субстанции); 2) основоположение порождения: все, что происходит, предполагает нечто, из чего оно необходимо следует, или: все изменения происходят по закону связи причины и действия (соответствует] катег[орической] причинности); 3) основоположение взаимности: все субстанции, насколько они существуют одновременно, состоят в сплошном общении или взаимодействии между собою. Общая зависимость явлений от условий познания определяется в следующих трех основоположениях, которые Кант называет "постулатами эмпирического мышления вообще" 9 и которые соответствуют категориям модальности: 1) что согласно с формальными условиями опыта (со стороны воззрения и со стороны понятий), то возможно; 2) что связано с материальными условиями опыта (ощущения), то действительно; 3) то, чего связь с действительным определяется по всеобщим условиям опыта, то существует необходимо. Учение о сознании, о категориях, о схематизме и об основоположениях составляет "трансцендентальную аналитику", результаты которей (в соединении с результатами "трансцендентальной эстетики") сводятся к следующему. Настоящее познание, т. е. чрез синтетические суждения a priori, возможно, поскольку предмет его -- мир явлений, опыт или природа -- не есть что-нибудь внешнее познающему и независимое от него, а представляет, напротив, во всех своих познаваемых определениях лишь произведение самого ума в его воззрительных и рассудочных функциях, обусловленных трансцендентальным единством самосознания и согласованных между собою посредством схем чистого воображения. Мир познается умом, лишь поскольку он создается им же; строго говоря, ум познает только свои собственные акты; как внутренняя рефлексия самодеятельного субъекта познание не представляет ничего загадочного. Как геометрические линии и фигуры понимаются нами a priori во всех своих свойствах, потому что нами же самими построяются, так что ум рассудочно находит в них только то, что он же в них интуитивно влагает,--- подобным образом и весь мир нашего опыта, будучи априорным синтетическим построением ума, естественно, и познается таким же способом. Загадочным или, прямо сказать, немыслимым факт познания кажется лишь при том ложном предположении, что познающий субъект должен переходить в какую-то внешнюю сферу реальности или что вещи должны каким-то образом проникать в сферу субъекта; но на самом деле познаваемая реальность есть лишь продукт самодеятельности нашего ума в его собственной сфере, а потому нет никакой надобности в невозможном переходе от субъекта к внешним вещам и от них к субъекту: поскольку предполагаемые вещи вне нас, мы о них ровно ничего не знаем и знать не можем, а все то, что мы познаем, находится при нас самих, есть явление нашего сознания, произведение нашего ума. Одним словом, акт субъекта может быть действительным познанием, поскольку и познаваемое есть акт того же субъекта. Этот свой взгляд Кант называет трансцендентальным или критическим идеализмом, отличая его от догматического, типическим представителем которого был Беркли. Различие состоит в том, что критический идеализм признает предметы нашего мира произведениями субъекта не со стороны их возможного существования в себе самих, а только со стороны их действительной познаваемости, тогда как догматический идеализм утверждает, что вещи внешнего мира и не существуют иначе как в нашем знании. Хотя иногда Кант и запутывается в собственных критических сетях, он все-таки решительно различает познаваемое существо (essentia) или природу объективного мира от его существования (existentia). Первое всецело полагается нашим умом и без остатка разрешается в феноменальное субъективное бытие; второе есть продукт ума, лишь поскольку определяется первым, само же по себе от него не зависит и потому непознаваемо. Создавая природу, наш ум самодеятелен, т. е. все формы и способы его синтетического действия, как воззрительного, так и рассудочного, берутся им a priori из самого себя; но материал этой умственной деятельности, именно ощущения, или чувственные восприятия, не производится умом a priori, a получается им как не зависящие от него данные. Конечно, и ощущения суть состояния субъекта, но не в его активности, а лишь как страдательного или рецептивного. Поэтому должно признать, что этот первоначальный чувственный материал всякого опыта и познания как данный, а не созданный в нас обусловлен каким-то непонятным образом со стороны той не зависящей от нас, а потому и непознаваемой сферы бытия, которую Кант обозначал как вещь в себе (Ding an sich). Но именно ощущения (введенные в воззрительные формы пространства и времени) дают действительные предметы для связующих построений рассудка, и таким образом в мире нашего познания, в мире явлений, всегда сохраняется некоторый несводимый к априорным элементам чувственный остаток, несомненно, хотя и неведомым путем происходящий из области независимого от нас в себе бытия. Предмет, как познаваемый, всецело полагается познающим умом, есть только наше представление, и нет здесь ничего, что не принадлежало бы субъекту; но в предмете, как существующем, есть такой независимый элемент, или, говоря точнее, некоторый показатель его, именно факт чувственного восприятия -- не в смысле содержания ощущений, которое так же субъективно, как и все прочее, а в смысле их происхождения, поскольку субъект является в них рецептивным, а не активным. Этот характер чувственного восприятия показывает, что оно определяется чем-то от нас независимым; но это что-то остается нам совершенно неизвестным и никогда не может сделаться предметом познания. Кант твердо и неизменно держится той точки зрения, что познаваемый предмет как такой есть вполне наше представление, во всех частях своих произведение чувственно-рассудочных функций познающего субъекта, причем, однако, самый процесс этого произведения в первом материальном начале своем, именно в ощущениях или чувственных восприятиях, обусловлен каким-то неведомым способом со стороны какой-то неведомой "вещи в себе". Так, например, этот стол или этот дом есть только мое представление; я не могу найти здесь ничего такого, что не было бы явлением моего собственного сознания; нелепо утверждать, чтобы этому столу соответствовал какой-нибудь стол an sich или этому дому -- дом an sich; но, с другой стороны, эти явления моего сознания (поскольку я различаю их от простых галлюцинаций или фантазий) не произошли бы, т. е. не были бы созданы моим умом, если бы он не определялся чем-то от него независимым, имеющим своего показателя в тех ощущениях, из которых наш ум построяет эти представления стола или дома. Таким образом, не существование этих предметов как таких, в их определенных качествах, а только самый факт их существования в моем сознании имеет некоторое независимое от этого сознания основание. Такая точка зрения вызывает новые вопросы, не разрешенные нашим философом; но самый тезис имеет достаточно определенный смысл, всегда один и тот же у Канта. Иначе, т. е. если бы самый факт существования данного явления вообще признавался всецело зависящим от одного моего ума, то потерял бы смысл любимый Кантом пример о существенном различии и даже несоизмеримости между талером, только представляемым, и талером, лежащем в кармане. Вопреки ошибочному мнению некоторых толкователей (между прочим, Шопенгауэра и Куно Фишера 10) нельзя найти никакого внутреннего противоречия в этом пункте между 1-м и 2-м изданиями "Критики чистого разума". Изложив в 1-м издании тот взгляд критического идеализма, что мир познается нами только в своих являемых формах, которые суть построения умственной деятельности нашего субъекта и помимо нашего представления вовсе не существуют, Кант увидал, что этот взгляд смешивается многими с тем фантастическим идеализмом, по которому мир создается субъектом без всякого данного материала и есть только грёза или пустой призрак. Ввиду этого Кант во 2-м издании, так же как и в Пролегоменах, подчеркнул различие двух идеализмов и изложил свой так, чтобы дальнейшее смешение было невозможно. Действительное содержание научному познанию дается чувственными предметами, создаваемыми умом из ощущений в форме пространственно-временного воззрения. Без таких воззрительных предметов понятия рассудка суть только пустые формы. Чтобы, напр., причинность была принципом действительного познания, требуются, в определенном пространстве и времени, конкретные предметы, которые и связываются причинным отношением. Но как же должно смотреть на предметы сверхчувственные, систематическое познание которых издревле предлагалось различными философскими учениями (коих притязания в современной Канту Германии унаследовала система лейбнице-вольфовской метафизики)? Возможность истинных наук -- математики и чистого естествознания -- доказана Кантом в трансцендентальной эстетике и в трансцендентальной аналитике; невозможность мнимой метафизической науки как предметного познания доказывается им в трансцендентальной диалектике, которая завершает существенную часть "Критики ч[истого] р[азума]". Наш ум имеет потребность данному своему содержанию сообщать характер безусловности. Мысли о безусловном или абсолютном, к которым он приходит на всех путях своих, не могут быть понятиями рассудка, каковые всегда относятся к условным предметам чувственного опыта; Кант называет их, в отличие от рассудочных понятий и правил, идеями или абсолютными принципами разума, относя их, таким образом, к особой способности (разуму в тесном смысле). Философия может по праву заниматься идеями, пока она принимает их в настоящем значении, именно видит в них выражения того, что должно быть согласно требованиям разума. Но так как идея о безусловном возникает в нас по поводу условных данных и абсолютные принципы мыслятся всегда в связи с тем или другим рядом относительных понятий и предметов, то ум впадает в невольное искушение смешать свою разумную функцию с рассудочной и поставить абсолютную идею в тот же условный ряд данных предметов -- не как цель стремления, а как действительно данное завершение ряда. Такое незаконное, хотя естественное перенесение абсолютных идей на плоскость относительных явлений, составляющих предмет рассудочного познания, порождает мнимую и обманчивую метафизическую науку, рассматривающую принципы разума как познаваемые сущности. Задача этой науки не может быть разрешена вовсе не потому, что она превышает ограниченные силы ума человеческого, как любит утверждать поверхностный скептицизм, а потому, что здесь познавательные силы направлены на то, что вообще не может быть предметом познания. Безусловное должно быть сверхчувственным, так как все чувственное необходимо условно; но действительное познание (в отличие от чисто формального мышления) относится к данным предметам, а предметы даются нам не иначе как чрез чувственные восприятия, под условиями пространства и времени; следовательно, они всегда чувственны, а безусловное, как сверхчувственное, никогда не может быть предметом действительного (опытного) познания. Идеи разума суть вещи мыслимые, а не познаваемые; умопостигаемые (νοῦμενα), а не являемые; требуемые, а не данные. Поэтому, когда наш разум принимает свои идеи за познаваемые предметы или сущности, он выходит из пределов своего права; такое незаконное употребление разума Кант называет трансцендентным, отличая его {Прямая противоположность трансцендентному есть имманентное, т. е. в пределах опыта, причем различается эмпирический материал опыта от его априорных условий, которые трансцендентальны (но не трансцендентны).} от трансцендентального. Трансцендентальное значение принадлежит всем априорным условиям опыта (т. е. тем функциям воззрения и рассудка, которые не вытекают из опыта, а определяют его и потому необходимо первее всякого опыта), а также идеям в их истинном смысле, как принципам и постулатам разума; наука, изучающая эти априорные основы всего существующего, есть трансцендентальная философия, или (истинная) метафизика,-- так именно обозначал Кант свою собственную философию,-- прямую противоположность которой составляет та трансцендентная (запредельная) философия, или ложная метафизика, разрушение которой было одной из его главных задач. Разум, в своем ложном применении, исходит из условного познаваемого бытия, чтобы затем, посредством обманчивых силлогизмов, перейти к мнимому, а на самом деле невозможному, а потому и несуществующему познанию безусловных вещей. Действительное бытие -- условное и познаваемое -- дано нам с трех различных сторон или в трех видах: как явления внутренние или психические (бытие в нас), как явления внешние или физические (бытие вне нас) и как возможность явлений, неопределенное бытие, или предмет вообще. От этих условных данных разум правильно заключает к безусловным идеям: от внутренних явлений -- к идее безусловного субъекта, или души, от внешних явлений -- к идее безусловного объекта, или мира, от возможности всякого бытия -- к идее безусловного как такого, или Бога. Эти идеи имеют (логическую) видимость познаваемых предметов, и когда разум, увлекаясь этой видимостью, принимает их за действительные предметы и связывает с ними познавательные суждения, то происходят три мнимые науки: о душе -- рациональная психология, о мире (как реальной совокупности внешнего бытия) -- рациональная космология и о Боге -- рациональная теология. Мнимое рациональное познание существа души высказывает о ней четыре главные тезиса: 1) душа есть субстанция; 2) она есть субстанция простая и -- как следствие из этих двух определений -- невещественная или бестелесная и неразрушимая, т. е. бессмертная; 3) она есть существо самосознательное, или личность, и, наконец, 4) она есть существо, непосредственно самодостоверное, Эти определения выводятся чрез умозаключения, которые Кант обличает как паралогизмы, т. е. ошибочные силлогизмы. Основная ошибка состоит в том, что один и тот же термин употребляется здесь в разных смыслах, так что между посылками и заключениями этих силлогизмов связь только кажущаяся; так, под субъектом в одном случае разумеется наше действительное л, т. е. проявляемое единство и самодеятельность (Spontan -- eität) мышления, связывающего все явления внутреннего, а чрез то и внешнего опыта, а в другом случае разумеется субъект внутреннего бытия сам по себе, о котором мы не можем ничего знать. Независимо от формального опровержения паралогизмов, проводимого Кантом не без натяжек, существенный интерес в критике рациональной психологии имеют следующие пункты. Из простоты или внутреннего единства и постоянства, нашего я нельзя вывести, что оно есть нематериальная субстанция. Несомненно, что паше я как внутреннее психическое явление, не имея ни протяженности или слагаемых в пространстве частей, ни веса или массы, не есть тело или вещество. Но ведь само телесное или вещественное бытие, поскольку оно определяется указанными свойствами, есть только явление в области наших внешних чувств, и, следовательно, утверждение нематериальности души в этом смысле сводится к положению, что явление внутреннее или психическое не есть явление внешнее или физическое, или что явление, определяемое одной формою времени, не есть явление, определяемое формами времени и пространства. Это -- истина, которая сама собою разумеется, но она нисколько не относится к неведомой нам сущности психического и физического бытия, и нет никакого разумного препятствия допустить, что эта сущность одна и та же для обеих сфер бытия; следовательно, нельзя утверждать нематериальность души в том смысле, чтобы у нее непременно была особая субстанция, несводимая к субстанции явлений вещественных. Точно так же из простоты мыслящего я никак не следует бессмертие души, т. е. невозможность исчезновения этого я. Без сомнения, мыслящий субъект, не будучи величиною протяженною или экстенсивною, не может быть разрушен разложением на части, но, как сила напряженная или величина интенсивная, он способен к постепенному убыванию, и нет ничего невозможного в предположении, что степень напряженности этой силы может падать до 0 и что, следов[ательно], мыслящее я может исчезнуть. Так же неосновательно, по мысли Канта, утверждаемая рациональной психологией самодостоверность внутреннего душевного опыта в отличие от опыта внешнего. Как явления в нашем сознании, предметы того и другого опыта одинаково достоверны. Несомненное различие между ними состоит в том, что физические явления существуют как части пространства, а психические -- нет; но так как само пространство есть форма нашей же чувственности, то это различие нисколько не касается достоверности тех и других. Если бы в этом отношении внутреннее явление как такое имело преимущество, то всякая галлюцинация была бы достовернее физического тела. На самом же деле их достоверность как состояний сознания одинакова, а в смысле объективного явления физическое тело имеет то преимущество, что иным, именно всеобщим, образом входит в образуемую умом связь опыта. Вообще же мир нашего опыта, внутреннего, а равно и так называемого внешнего, имеет самодостоверность для ума, поскольку им же построяется, и сам ум достоверен для себя не иначе как в этой своей деятельности. Космологическая идея, т. е. идея мира как завершенного целого, когда эта завершенность принимается за данный факт или предмет познания, запутывает разум во внутренние противоречия, выражающиеся в следующих четырех антиномиях: 1. Положение: мир имеет начало (границу) во времени и в пространстве; противуположение: мир во времени и пространстве бесконечен, 2. Полож[ение]: все в мире состоит из простого (неделимого); противуп[оложение]: нет ничего простого, а все сложно. 3. Положение]: в мире существуют свободные причины; противуп[оложение]: нет никакой свободы, а все есть природа (т. е. необходимость). 4. Положение]: в ряду мировых причин есть некое необходимое существо; противуп[оложение]: в этом ряду нет ничего необходимого, а все случайно. Во всех четырех случаях положение и противуположение могут быть доказаны одинаково ясными и неопровержимыми доказательствами. Первые две антиномии Кант называет математическими, так как они занимаются составлением и делением однородного. Тезы и антитезы здесь не могут быть одинаково истинными, так как дело идет об одном и том же однородном предмете (мир как данный в пространстве), о котором нельзя утверждать два прямо противоречащих друг другу суждения; следовательно, эти тезы и антитезы одинаково ложны. Это бывает вообще возможно тогда, когда понятие, лежащее в основе обоих упраздняющих друг друга положений, само себе противоречит; так, напр., два положения: "четвероугольная окружность не кругла" и "четвероугольная окружность кругла" -- оба ложны вследствие внутреннего противоречия в самом понятии четвероугольной окружности. Подобное противоречивое понятие и лежит в основе двух первых антиномий. Когда я говорю о предметах в пространстве и времени, то я говорю не о вещах самих по себе, о которых я ничего не знаю, а о вещах в явлении, т. е. об опыте как особенном роде познания объектов, единственно доступном человеку. Что я мыслю в пространстве и времени, о том я не могу сказать, что оно само по себе и без этих моих мыслей существует в пространстве и времени; ибо тогда я буду себе противоречить, так как пространство и время, со всеми явлениями в них, не суть что-либо существующее само по себе и вне моих представлений, а суть сами лишь способы представления, а, очевидно, будет нелепо сказать, что наш способ представления существует и вне нашего представления. Предметы чувств, таким образом, существуют лишь в опыте; приписывать им собственное самостоятельное существование помимо опыта и прежде него -- значит представлять себе, что опыт действителен и без опыта или прежде него. Если я спрашиваю о величине мира в пространстве и во времени, то здесь предполагается, что эта величина, определенная так или иначе, должна бы принадлежать самому миру помимо всякого опыта. Но это противоречит понятию чувственного мира или мира явлений, существование и связь которого имеет место только в представлении, именно в опыте, так как это не есть вещь сама по себе, а лишь способ представления. Отсюда следует, что так как понятие существующего для себя чувственного мира противоречит самому себе, то всякое разрешение вопроса о величине этого мира всегда будет ложно, как бы ни пытались его разрешить: утвердительно, т. е. в смысле бесконечности, или же отрицательно -- в смысле ограниченности мира. То же самое относится и ко второй антиномии, касающейся деления явлений, ибо эти последние суть только представления и части существуют только в представлении их, следовательно, в самом делении, т. е. в возможном опыте, в котором они даются, и деление не может идти дальше этого опыта. Принимать, что известное явление, напр. тело, содержит само по себе, прежде всякого опыта, все части, до которых только может дойти возможный опыт,-- это значит простому явлению, могущему существовать только в опыте, давать вместе с тем собственное, предшествующее опыту существование, или утверждать, что представления существуют прежде, чем представляются, что противоречит самому себе, а следовательно, нелепо и всякое разрешение этой ложно понятой задачи, утверждают ли при этом, что тела состоят сами по себе из бесконечно-многих частей или же из конечного числа простых частей. В этом первом, математическом классе антиномий (1-я и 2-я) ложность предположения состояла в том, что противоречащее себе (именно явление как вещь сама по себе) представлялось соединимым в одном понятии. Что же касается второго, динамического класса антиномий (3-я и 4-я), то тут ложность предположения состоит, наоборот, в том, что на самом деле соединимое представляется противоречащим, следовательно, тогда как в первом случае оба противуположные утверждения ложны, здесь, напротив, утверждения, противупоставленные друг другу только по недоразумению, могут быть оба истинны. Дело в том, что математическая связь необходимо предполагает однородность соединяемого (в понятии величины), динамическая же нисколько этого не требует. Когда речь идет о величине протяженного, то все части должны быть однородны между собою и с целым; напротив, в связи причины и действия хотя и может встречаться однородность, но в этом нет необходимости, ибо этого не требует понятие причинности, где посредством одного полагается нечто другое, совершенно от него отличное. Противоречие между природою и свободою неизбежно только при смешении явлений с вещами самими по себе; тогда естественный закон чувственных явлений принимается за закон самого бытия, субъект свободы ставится в ряд прочих естественных предметов и, следовательно, двоякая причинность оказывается невозможной, ибо пришлось бы вместе утверждать и отрицать одно и то же об одинаковом предмете в одном и том же значении. Если же относить естественную необходимость только к явлениям, а свободу -- только к вещам самим по себе, то можно без всякого противоречия признать оба эти рода причинности, как бы ни было трудно или невозможно понять причинность свободную. В себе самих, именно в нашем разуме, мы находим соединение этих двух причинностей. Когда мы действуем по идее добра, по совести или по нравственному долгу, то истинная причина наших действий есть именно эта объективная идея, которая вовсе не подчинена времени и не входит в механическую связь явлений, ибо долженствование имеет безусловный характер и с точки зрения времени то, что должно быть, есть будущее, предшествующее настоящему, т. е. нелепость. Но на самом деле такой нелепости нет, ибо должное вовсе не связано с временем или есть причина свободная, именно поскольку она принадлежит к тому, что есть само по себе, независимо от связи явлений. Когда мое действие определяется чистой идеей добра, то, без сомнения, эта идея есть причина моего действия; но невозможно сказать, чтобы добро было явлением, предшествующим во времени доброму действию, ибо эта идея имеет объективное значение, тождественное себе во все моменты времени. Следовательно, это есть причина не феноменальная, не входящая как звено в цепь естественной необходимости. Но с другой стороны, всякое мое отдельное действие, доброе, как и злое, необходимо имеет в порядке времени определяющий его субъективно-психологический мотив, т. е. известное душевное явление, предшествующее этому действию и определяющее его с необходимостью не по внутреннему его качеству, а как событие или происшествие, имеющее место в мире явлений в данный, определенный момент времени. Наш практический разум (или воля) в существе своем, самоопределяющемся по идее добра, есть (по терминологии Канта) умопостигаемый характер, а как явление, определяющееся психологическою мотивацией и входящее в общую естественную связь явлений, наша воля представляет характер эмпирический. Таким образом, антиномия свободы и необходимости разрешается так, что все действия свободны с точки зрения характера умопостигаемого и все действия необходимы с точки зрения характера эмпирического. Что касается до 4-й антиномии, то следует только различать причину в явлении от причины явлений, насколько она может быть мыслима как вещь сама по себе, и тогда оба положения (т. е. и утверждение и отрицание безусловной причины мира) могут быть равно допущены; ибо противоречие их основывается исключительно на недоразумении, по которому то, что имеет значение только в порядке явлений, распространяется на вещи сами по себе и вообще эти два понятия смешиваются в одном. Критика рациональной теологии состоит в существенной своей части из опровержения трех мнимых доказательств бытия Божия, ведущих свое начало из очень древних времен, но формальную законченность получивших в новой школьной философии. 1) Онтологическое доказательство из понятия о всесовершенном Существе выводит необходимость его существования на том основании, что если бы этому Существу недоставало действительного бытия, то оно не имело бы всех совершенств. Очевидная ошибка такого аргумента состоит в том, что действительное существование принимается здесь как признак, входящий в содержание понятия наравне с другими признаками и выводимый аналитически, тогда как на самом деле существование есть факт, привходящий к понятию и познаваемый только из опыта. 2) Космологическое доказ[ательство]: наш мир представляет только ограниченное и случайное бытие, т. е. не заключающее в себе своего основания, а потому он требует другой причины, безусловно-необходимой и неограниченной,-- Существа, обладающего всеми реальностями, или полнотой бытия. В этом мнимом аргументе категория причинности, составляющая умственное условие нашего опыта, незаконно переносится за пределы всякого опыта, и, кроме того, от понятия мировой причины делается произвольный скачок к Существу всереальнейшему. 3) Телеологическое доказ[ательство] выводит бытие Божие из мировой телеологии, или целесообразного устройства природы. Замечаемая нашей способностью суждения целесообразность физического мира, если и приписывать ей независимое от нашего ума значение, имеет во всяком случае лишь относительный и формальный характер, и для объяснения ее было бы достаточно предположить некоторую зиждительную (образующую) силу, действующую по целям, т. е. Димиурга, а не всеблагого, премудрого и всесовершенного Бога. Такой Бог не может быть доказан теоретически и составляет лишь идеал, достоверность которого основывается не на познавательной, а на нравственной способности человека: это есть постулат чистого практического разума. Нравственное учение Канта основывается на выделении из человеческой практики всех эмпирических элементов, с тем чтобы получить в результате чистую формальную сущность нравственности, т. е. правило деятельности всеобщее, необходимое, заключающее в самом себе свою цель и потому дающее нашей воле соответственный чистому разуму характер самозаконности (автономии). Кант относится вполне отрицательно к мнимой морали, основанной на приятном и полезном, на инстинкте, на внешнем авторитете и на чувстве; такая мораль чужезаконна (гетерономична), ибо все эти мотивы, по существу своему частные и случайные, не могут иметь безусловного значения для разума и внутренно определять окончательным образом волю разумного существа как такого.-- Вообще все правила деятельности, предписывая что-либо, имеют повелительную форму, или суть императивы; когда предписание обусловлено какой-нибудь данной целью, не заключающейся в самом правиле, то императив имеет характер гипотетический. Данные цели могут быть или специальными (некоторыми из многих возможных) -- и тогда императивы, ими обусловленные, суть технические правила уменья; или же это цель всегда действительная, каковою именно является собственное благополучие каждого существа, и определяемые этою целью императивы суть прагматические указания благоразумия. Но ни уменье, ни благоразумие еще не составляют нравственности; в некоторой мере эти свойства принадлежат животным; человек, с технической ловкостью удачно действующий в какой-нибудь специальности или благоразумно устрояющий свое личное благополучие, может, несмотря на это, быть совершенно лишен нравственного достоинства. Такое достоинство приписывается лишь тому, кто не только какие-нибудь частные и случайные интересы, но и все благополучие своей жизни безусловно подчиняет моральному долгу или требованиям совести; только такая воля, желающая добра ради него самого, а не ради чего-нибудь другого, есть чистая или добрая воля, имеющая сама в себе цель. Ее правило, или нравственный закон, не будучи обусловлен никакою внешнею целью, есть не гипотетический, а категорический императиву свободный от всякого материального определения, определяемый чисто формально, т. е. самым понятием безусловного и всеобщего долженствования; действуй лишь по тому правилу, следуя которому ты можешь вместе с тем (без внутреннего противоречия) хотеть, чтобы оно стало всеобщим законом, или, другими словами: действуй так, как будто бы правило твоей деятельности посредством твоей воли должно было стать всеобщим законом природы {С точки зрения модальности нравственный закон имеет характер аподиктический (необходимый или обязательный), тогда как прагматические указания благоразумия ассерторичны, а технические правила уменья -- только проблематичны (разумеется, в смысле практических предписаний).}. Это правило, отнимая значение цели у всяких внешних предметов воли, оставляет как цель только самих субъектов нравственного действия, которые тем самым получают безусловное достоинство (Würde) в отличие от относительной цены (Preis), принадлежащей внешним предметам, которые могут быть не целью, а средствами для нравственной деятельности. Отсюда вторая формула категорического императива: действуй так, чтобы человечество как в твоем лице, так и в лице всякого другого всегда употреблялось тобою как цель и никогда как только средство. Таким образом, получается идея воли каждого разумного существа как всеобщей законодательной воли. Это понятие каждого разумного существа, которое во всех правилах своей воли должно смотреть на себя как на дающее всеобщий закон, чтобы с этой точки зрения оценивать себя и свои действия, ведет к новому, весьма плодотворному понятию: царства целей, т. е. систематического соединения различных разумных существ посредством общих законов, определяющих их взаимодействие как целей самих по себе. Отсюда третья формула категорического императива: действуй по той идее, что все правила в силу собственного законодательства должны согласоваться в одно возможное царство целей, которое в осуществлении явилось бы и царством природы. Полное осуществление нравственного принципа есть уже не обязанность, определяемая идеею добра, т. е. доброй или чистой воли, а постулат, определяемый идеею высочайшего блага (summum bonum, das höchste Gut). Чистая воля или добродетель должна быть безусловно независима от удовольствия и счастья или благополучия; но пребывающее противоречие между добродетелью и счастьем несогласно с идеею высшего блага, которое в полноте своей должно заключать всякое добро, следовательно, и счастье, т. е. удовлетворенное жизненное состояние,-- не как условие или причину добродетели, а, напротив, как обусловленное ею следствие. Высшее благо есть единство добродетели и благополучия. По требованию разума высочайшее благо должно быть осуществлено. Из анализа этого общего постулата мы получаем три частные: свободу воли, бессмертие души и бытие Бога. "Осуществлять высочайшее благо значит: 1) стремиться к нравственному совершенству, 2) достигать его и, 3) делаясь через то достойным блаженства, пользоваться им как необходимым следствием совершенной добродетели". Без свободы невозможно стремление к нравственному совершенству; достижение его возможно только в бесконечном существовании и, следовательно, требует бессмертия души; наконец, согласие нравственного совершенства (внутреннего) с внешним благополучием предполагает, что идеал разума есть вместе с тем действительный владыка мирового порядка, или сущий Бог. Первая из этих идей -- свобода -- рассматривается Кантом не только как один из постулатов практического разума, но и как общее условие нравственности вообще. Возможность свободы основывается на различии эмпирического характера от умопостигаемого, т. е. на различии человеческой индивидуальности в порядке явлений от нее же как вещи в себе. Принадлежа к миру явлений, наш эмпирический характер подлежит общему закону явлений или естественной необходимости; но, будучи вместе с тем вещью в себе, мы имеем независимый от закона явлений или свободный умопостигаемый характер (см. выше). Проявление его в области психологического опыта, или суждение умопостигаемого характера об эмпирическом, есть совесть. В совести нравственный долг, а следовательно, и свобода познаются нами с полной достоверностью, хотя и не составляют предмета теоретического познания, относящегося только к чувственным явлениям. Что касается бессмертия души и бытия Божия, то эти идеи составляют предмет разумной веры: веры -- так как они не подлежат опыту, разумной -- так как они с необходимостью утверждаются на требованиях разума. В учении Канта о праве и государстве, об истории и религии далеко не все заслуживает одинакового внимания; укажем лишь мысли более оригинальные и значительные. Необходимым требованием разума Кант считал, чтобы начало права не ограничивалось пределами отдельных государств и народов, а распространялось и на всю совокупность человечества для достижения вечного мира. Ввиду этой цели Кант ставил следующие положительные условия: 1) гражданское устройство в каждом государстве должно быть правомерным; 2) международное право должно быть основано на союзе свободных государств; 3) взаимные отношения народов и государств должны определяться всеобщим гостеприимством или "космополитическим правом".-- Основные взгляды Канта на право и государство образовались под сильным влиянием идей Руссо, но Кант идет дальше его в своих взглядах на историю, которую определяет как развитие человечества в свободе, или прогрессивный переход от естественного состояния к моральному. Отношение Канта к религии обусловлено его нравственной философией: он допускает только "моральную теологию", отрицая "теологическую мораль", т. е., по его точке зрения, религия должна быть нравственною, или основанной на нравственности, а никак не обратно. Реальной основой религии Кант (согласно с библейским учением) признает "радикальное зло" в человеческой природе, т. е. противоречие между требованием разумно-нравственного закона и беспорядочными стремлениями чувственной природы, не подчиняющимися высшему началу. Отсюда потребность в избавлении или спасении -- ив этом сущность религии. Факту радикального зла или греха противополагается идеал нравственно совершенного или безгрешного человека. Совершенная праведность, т. е. чистая или божественно настроенная воля, обнаруживается в постоянном и решительном торжестве над всеми искушениями злой природы; высшее выражение святости есть добровольно принятое страдание во имя нравственного принципа. Для грешного человека страдание есть необходимый момент в процессе избавления от зла, оно есть неизбежное наказание за грех; но страдание человека безгрешного (Сына Божия), не будучи следствием собственного греха, может иметь замещающую силу, или покрывать грехи человечества. Для истинной религии необходима практическая вера в нравственный идеал, т. е. в совершенно праведного человека или Сына Божия, который есть разумное основание, цель и смысл (Логос) всего существующего. Признавать воплощение этого идеала фактически совершившимся в лице 1. Христа не противоречит разуму, если только такую историческую веру подчинять моральной, т. е. относить ее исключительно к тому в жизни Христа, что имеет нравственный смысл. И другие главные догматы христианства Кант толкует с нравственной точки зрения, включая их, таким образом, в свою "религию в пределах одного разума". Но к чудесам евангельским, равно как и к чудесам вообще, Кант относится вполне отрицательно. Учение Канта о целесообразности и красоте, излагаемое в "Критике способности суждения", есть третья главная часть критической философии. Все способности человеческого духа могут быть сведены к трем: познавательной способности, желательной и чувству удовольствия или неудовольствия. Первая получает свое высшее определение или нормальную форму от категорий рассудка, вторая -- от идей практического разума, третья -- от телеологической и эстетической рефлексии. Вообще наши суждения бывают или определяющими, или рефлектирующими. Первые подводят частные данные под общее правило -- таковы все суждения точных наук; вторые усматривают некоторую специфическую закономерность в данных предметах или оценивают их по отношению к некоторой цели. Цель эта может быть субъективною, т. е. содержаться только в нашем представлении; или же цель полагается объективно, как то, чего осуществление дано действительностью самого предмета. Субъективная рефлексия (поскольку она имеет общее значение) производит суждения эстетические, объективные -- телеологические. Формальной целесообразности представляемого объекта психологически соответствует известное взаимоотношение между воображением и интеллигенцией. Когда это отношение есть согласие или гармония, именно когда воображаемый в своей особенности объект сообразен своей мысленной цели, то это вызывает в нас чувство удовольствия, в противном случае -- неудовольствия; таким образом, созерцаемой целесообразности прямо соответствует и целесообразное состояние -- гармоническое и приятное -- наших душевных сил. Из этого не следует, чтобы сущность эстетических суждений можно было свести к субъективному чувству удовольствия. Эстетическое наслаждение есть особый вид удовольствия, определенно отличающийся от других. Прекрасное нам нравится, но нам нравится также и то, что полезно нашему организму (напр., питательные предметы), или то, что удовлетворяет наши страсти; с другой стороны, для нравственного чувства нет ничего приятнее добродетели. Но ни то, ни другое удовольствие не есть эстетическое; оба они имеют то общее между собою, что их предметы нам нужны, т. е. что в них заинтересована наша воля (низшая, чувственная воля в первом случае, высшая, нравственная -- во втором). В отличие от этого удовольствие эстетическое определяется как чистое или незаинтересованное; предметы его материально не нужны, они вызывают удовольствие одним представлением их формы (тогда как представление нравственной обязанности может быть приятно только в связи с ее действительным исполнением, а представление питательного предмета вызывает удовольствие в голодном только ввиду предстоящего насыщения). Далее, эстетическое наслаждение есть необходимо всеобщее, но вместе с тем оно не обусловлено отвлеченными понятиями, а имеет непосредственно-созерцательный характер.-- Чувство прекрасного относится к форме предметов; но форма есть ограничение,-- а существуют предметы, которые нам эстетически нравятся снятием всяких ограничений, т. е. своею безмерностью и, следовательно, отрицанием формы. Вид звездного неба или бесконечного моря вызывает удовольствие бескорыстное и безвольное, оканчивающееся в представлении, всеобщее и необходимое, следовательно, по всем этим признакам эстетическое; однако предмет его есть не форма, как в прекрасном, а, напротив, упразднение всякой формы в безмерности и бесконечности. На этом основании Кант от прекрасного отличает возвышенное (das erhabene), которое он подразделяет на математически возвышенное или великое и динамически возвышенное или могучее. При известных индивидуальных условиях эстетическая способность наслаждаться прекрасным и возвышенным переходит в способность создавать предметы, вызывающие эти чувства, т. е. художественные произведения. Такая способность есть гений, в котором сильное воображение уравновешивается особой восприимчивостью ума. Кант ограничивает гениальность одной областью искусства. Прекрасные и возвышенные произведения как природы, так и искусства целесообразны субъективно, т. е. по отношению к нашему эстетическому чувству и идее. Но есть в природе целесообразность объективная, именно в области живой органической природы. В органическом существе есть внутренняя целесообразность, состоящая в том, что все его части в своем строении, взаимоотношении и действии определяются одною общею целью, которая находится не вне его, а есть собственная жизнь этого существа как целого. Взаимная зависимость частей и их внутреннее подчинение целому как цели свойственны также художественному произведению; но от этой эстетической целесообразности естественная или органическая отличается тем, что в силу ее организм сам себя создает и воспроизводит, не нуждаясь в постороннем художнике. Признание объективной целесообразности в природе приводит, с точки зрения Канта, к некоторой антиномии. С одной стороны, его теоретическая натурфилософия утверждает: "В естественнонаучном объяснении вещей по критическим основоположениям нет никакой другой причинности, кроме механической"; с другой стороны, "критика способности суждения" признает, что организмы создаются извнутри по идее цели, которою и определяется вся их действительная жизнь. Разрешение антиномии гласит: ни естественнонаучное познание механической причинности, ни рефлектирующее усмотрение органической целесообразности не имеют своим предметом вещь в себе или подлинное бытие, а только явления, определяемые деятельностью нашего ума, который в качестве теоретического рассудка производит, а потому и познает причинную связь их по законам механическим, а в качестве рефлексии или телеологической силы суждения создает, а потому и усматривает их целесообразность. Это мнимое разрешение мнимой антиномии, заканчивающее последний из трех главных философских трудов Канта, особенно ярко обнаруживает тот коренной недостаток всей его философии, который с необходимостью вызвал дальнейшее движение умозрительной мысли и делает безуспешными все попытки вернуть философию к чистому кантианству. Критика философии Канта. Положительная сущность этой философии может быть выражена в двух словах: зависимость мира явлений от ума и безусловная независимость нравственного начала. Ум может познавать только то, что создано умом,-- и действительно, весь познаваемый нами мир образуется умом, посредством присущих ему форм чувственного созерцания и рассудочных категорий. Этим утверждением отрицается кажущаяся самостоятельность внешних вещей и явлений; все нами действительно познаваемое из вещей превращается в представление ума. И это утверждение, и это отрицание безусловно истинны и составляют ту новую точку зрения, на которую Кант из всех философов первый стал с полной твердостью и отчетливостью. Этим он возвел философское мышление на высшую (сравнительно с прежним состоянием) ступень, с которой оно никогда уже не может сойти. Но для философии (как и для физической науки) недостаточно кажущееся заменить истинным -- нужно еще дать истинной точке зрения такую полноту и определенность, при которых возможно было бы удовлетворительно объяснить самый факт обманчивой видимости. Ведь не по одному же невежеству, как полагали древнеиндийские мудрецы, мы различаем в познаваемом реальность от представления, т. е. некоторые представления принимаем за res. Теория Коперника (с которой Кант сравнивает свою философию) приобрела окончательное значение в науке благодаря тому, что она не только представляет настоящий вид солнечной системы, но также вполне удовлетворительно объясняет те кажущиеся движения небесных тел, которые прежде принимались за настоящие. Но Кант не довел постигнутую им философскую истину до надлежащей полноты и определенности, остановился на полпути и потому не избежал противоречий с очевидностью. Ум по преимуществу критический и формальный, он довольствовался отвлеченною правотою общих принципов, сопоставляя их с действительностью, но не заботясь о том, чтобы они ее проникали и осмысливали. Поняв с полной ясностью, что мир познаваем, лишь поскольку производится умом, или что все нами познаваемое есть произведение ума, он построил на этой истине целую систему общих формул, не обращая никакого внимания на существеннейший для живого сознания вопрос: что же, собственно, такое этот зиждительный ум и какое его отношение к данному эмпирическому уму каждого отдельного человека? Когда Кант доказывал, что пространство и время суть лишь формы интуиции человеческого ума, он разумел, очевидно, не свой собственный ум, который сам возник и вырос в известных пространственных и временных условиях и, следовательно, не мог быть творцом этих условий. Ясно, что формы пространства и времени одинаково производятся всяким умом. Сама множественность (многие умы), как это несомненно вообще и как это в особенности признавал Кант, есть категория ума; однако она, очевидно, не может быть первоначально и исключительно категорией (т. е. правилом и способом проявления) одного из многих умов, т. е. уже определенных этою категорией. Она, как и все, что составляет общее условие для всех эмпирических умов (следовательно, также и формы пространства и времени), не может быть только произведением какого-нибудь эмпирического субъекта или субъектов. Кант сам различает трансцендентальный субъект от эмпирического, но так мало останавливается на этом важнейшем различении, что оно совсем пропадает у него среди безмерного множества схоластических и ни к чему не нужных дистинкций и терминов,-- пропадает настолько, что многие позднейшие толкователи и критики неумышленно смешивают двух субъектов, идеализму Канта придают характер эмпирико-психологический и тем превращают всю критическую философию в сплошной абсурд. Только чрез надлежащее развитие идеи о трансцендентальном субъекте основная мысль Канта, что все познаваемые нами предметы и явления суть представления или мысли ума, может получить свой истинный разумный смысл -- иначе она сама себя разрушает. Если все, что я могу знать,-- все предметы и явления -- суть только мои представления, т. е. существуют, лишь поскольку я их мыслю, то и сам я существую лишь в своем собственном представлении или поскольку актуально мыслю о самом себе; а в таком случае все учение Канта о трансцендентальном единстве сознания необходимо оказывается простым petitio principii 11 . Во избежание этого необходимо решительно различать актуальное сознание (эмпирического) субъекта, т. е. его условное и перемежающееся мышление, которое никак не может служить основанием ни для его собственного, ни для чужого бытия, от трансцендентального субъекта, или пребывающего и универсального ума, которого мышление, своими всеобщими и необходимыми формами и категориями, создает и определяет все предметы и явления (а следовательно, и меня самого как явление) совершенно независимо от моих или чьих бы то ни было психологических состояний. Весь познаваемый мир явлений есть только представление, притом он есть представление моего ума, поскольку мой ум совпадает с умом трансцендентальным (т. е. формально -- всегда, материально же -- при известных условиях); но этот же самый мир, нисколько не переставая быть представлением (именно трансцендентального субъекта), получает значение внешнего независимого бытия для меня (как субъекта эмпирического), поскольку я нахожу и утверждаю себя как одно из явлений этого мира. Если в области этической я, как практический разум, представляю собою самозаконного создателя нравственного порядка и я же, как чувственное и злое существо, должен подчиняться этому нравственному порядку как внешнему мне закону, то соответственным образом и в сфере познания я, как чистый разум (т. е. поскольку этот разум во мне действует или чрез меня проявляется), создаю, по присущим мне формам и категориям, весь мир явлений, и я же, в качестве эмпирического субъекта входя в состав этого мира, подчиняюсь его законам, или естественному ходу вещей, как внешним и необходимым условиям моего собственного бытия. С этой точки зрения исчезает (в принципе) предполагаемая Кантом бездна между нравственным миром и физическим. Между обоими, т. е., точнее, между положением человека в том и другом, оказывается не только соответствие, но и прямая внутренняя связь. Истина познается эмпирическим умом только формально, точно так же как нравственное добро существует для эмпирической, гетерономной воли только в форме долга. Мир явлений тяготеет над эмпирическим умом как нечто внешнее и непроницаемое, подобно тому как нравственный порядок представляется гетерономной воле как внешний и тягостный закон. Следовательно, для действительного познания истины, как и для действительного нравственного усовершенствования, нам необходимо однородное преобразование: эмпирический ум должен усвоить зиждительную силу ума трансцендентального, и гетерономная воля должна стать самозаконною, т. е. сделать добро предметом собственного бескорыстного стремления. Это двоякое преобразование должно быть, очевидно, нашим собственным делом, т. е. исходить из нашей воли, ставящей себе истину и добро как безусловную цель; таким образом, почин принадлежит нравственному началу в нас, и "примат практического разума" получает с этой точки зрения еще более глубокий смысл, чем в каком его утверждал Кант, за которым, впрочем, останется великая заслуга первого провозвестника в философии безусловной, чистой или автономной нравственности. Его выведение и троякое определение категорического императива дали этике основание, равное по достоверности аксиомам чистой математики. Напротив того, сомнительное философское значение имеют его "метафизические первоосновы естественной науки", связанные более словами, чем мыслями, с "критикою чистого разума". Самый важный и трудный вопрос в философской науке о природе есть вопрос о материи; он имеет здесь такое же значение, какое в философской антропологии принадлежит вопросу о свободе воли. В своих "Metaphysische Anfangsgründe " Кант дает ряд определений материи: она есть "подвижное в пространстве", "бытие, наполняющее пространство", "движущая сила", наконец, "субстанция движения". Под всеми этими определениями мог бы подписаться любой догматический философ, хотя бы он был приверженцем материализма (в его динамической разновидности). Как же, однако, относятся эти определения к собственным принципам Канта? Что значат для критической философии слова "бытие, наполняющее пространство"? Ведь пространство есть только воззрительный акт нашего ума, оно не существует само по себе, а только представляется нами -- каким же образом представление может быть наполнено бытием? Нельзя от этого отделаться общим утверждением, что всю метафизику материи у Канта нужно относить к миру как явлению; понятие явления имеет и у Канта определенное значение актуального представления, обусловленного представляющим умом, и нельзя этот термин употреблять как фальшивое клеймо для провезения всякого догматического товара через критическую таможню. С критической точки зрения, когда мы говорим о бытии или существовании чего-либо, мы разумеем одно из трех: или это есть вещь в себе, обладающая подлинным бытием, но совершенно непознаваемая, или это есть явление, т. е. представление в нашем сознании, или, наконец, это есть одно из общих условий всякого представления или явления, т. е. какая-либо априорная форма или категория нашего ума. В каком же из этих трех смыслов бытие приписывается материи? Она не может быть "вещью в себе", ибо тогда она была бы безусловно непознаваема, между тем как, по Канту, она не только познается, но и есть единственный предмет естественнонаучного познания. Но материя не есть также явление или представление, т. е. чувственный предмет, ибо она вовсе не представляется и никаким чувствам не подлежит -- нельзя видеть, слышать, осязать материю; наши ощущения относятся к телам, но понятия материи и тела не тождественны, ибо мы говорим о "материи тел"; далее, мы различаем психические явления от материальных, следовательно, материя есть то, что отличает один род явлений от других, а не одно из явлений; она есть общее, единое и пребывающее во всех явлениях второго рода; Кант определяет ее, наконец, как силу, но сила есть не явление, а причина явлений,-- одним словом, она сводится в конце концов к признакам рассудочно-мыслимым, а не чувственно представляемым. Итак, остается признать материю одним из умственных условий нашего познания или мира явлений; но она не может быть сведена к одной из их воззрительных форм: как наполняющая пространство и пребывающая во времени, она не есть ни пространство, ни время, следовательно, для нее остается только область рассудочных категорий. И в самом деле, ее легко свести, как это отчасти делает и сам Кант, к категориям реальности, субстанции, причинности и необходимости. Но что же это значит с точки зрения критической философии? Из того, что мы мыслим нечто как субстанцию, не следует, чтобы это было подлинною субстанцией помимо нашего мышления; иначе и душа была бы такой субстанцией, что решительно, отвергается Кантом как "паралогизм" в его критике рациональной психологии. Значит, и материя не есть субстанция, а только наша мысль о субстанции; но тогда это будет в сущности идеализм Беркли, от которого Кант всегда так усердно открещивается. Чтобы избежать его с этой стороны, он делает некоторые глухие указания на материю как на первоначальную основу (или причину) тех чувственных данных (ощущений), которые независимы от нашего ума и составляют материал его построений. Но такой взгляд, если остановиться на нем серьезно, делал бы, во-1-х, материю вещью в себе, во-2-х, создавал бы из категории причинности способ действительного познания этой вещи в себе (поскольку материя познавалась бы тогда как подлинная причина, производящая наши ощущения), что противоречит самому существу критической философии, и, наконец, в-3-х, такой взгляд совершенно несогласен с действительным психофизиологическим генезисом нашего чувственного познания. Несомненно, в самом деле, что наши ощущения -- зрительные, слуховые, осязательные и т. д.-- вызываются вовсе не какими-то вещами в себе, а известными, определенными явлениями, т. е. созданиями ума. Правда, с точки зрения Канта, здесь выходит нечто необъяснимое и даже прямо нелепое: те ощущения, из которых наш ум создает явления, оказываются обусловленными действием этих самых явлений. Так, несомненно, что явление солнца с его лучами создается нашим умом из зрительных ощущений, а сами эти ощущения столь же несомненно происходят не от чего иного, как от действия этих самых солнечных лучей на наши зрительные органы. Единственный способ выйти из этого ложного круга, не впадая в наивный реализм, есть тот, на который я выше намекал,-- именно последовательное развитие идеи о трансцендентальном субъекте в его отличии и взаимоотношении с субъектом эмпирическим; тут и материя нашла бы себе законное и приличное место. Вопрос о свободе воли (с метафизической его стороны) решается у Канта так же неудовлетворительно, как и вопрос о материи. Различение между умопостигаемым характером, т. е. нами как существом самим в себе, и характером эмпирическим, т. е. нами как явлением, бесполезно для действительного объяснения. Утверждение, что умопостигаемый характер есть свободная причина эмпирического или свободно создает этот последний независимо от времени, не имеет мыслимого содержания. Понятие создания сводится к понятию временного происшествия; когда я говорю, что нечто создано хотя бы непосредственным и мгновенным творчеством, я разумею по крайней мере два последовательных момента времени: первый, когда этого созданного еще не было, и второй, когда оно явилось; то же должно сказать и о понятии акта. Свобода воли на этой почве есть не только нечто непознаваемое, но и нечто немыслимое; вообще противоположение, которое делает здесь Кант между мышлением и познанием, совершенно неверно. Конечно, не всякая мысль есть познание, но всякая достоверная мысль непременно есть познание; если мы имеем достаточное основание утверждать, что известная мысль достоверна, то мы тем самым утверждаем за нею не субъективное только, но и объективное значение,-- утверждаем, что чрез нее познается истина, и, следовательно, приписываем ей характер познания. То, что есть только мысль, а не познание, относится к одной возможности, а не к действительности предметов. Между тем Кант старается вывести свободу воли как нечто действительное и достоверное; но в таком случае она познаваема (именно познается как истина), а таковою она по принципам Канта быть не может. Столь же неосновательно различение между суждениями рефлектирующими и определяющими, введенное Кантом в "критику способности суждения" для объяснения прекрасного и целесообразного. О нем не было помину, когда Кант разбирал природу познания; тогда суждения разделялись на синтетические и аналитические, априорные и апостериорные. Новое деление изобретено наивнейшим образом, когда представилась надобность оградить предвзятую мысль от явного противоречия с действительностью. В природе мы находим связь явлений по целям именно в организмах; отсюда прямой аналитический вывод, что мы познаем не только механическую причинность, но также и целесообразность. Если мы в действительности открываем связь явлений по целям, то, значит, цели могут быть предметом нашего познания: ab esse ad posse 1 2 valet consequentia. Но Кант рассуждает иначе: так как он (в "Критике чистого разума" и в "Metaphysische Anfangsgr [ünde der Naturwissenschaft]" утверждал, что предметом познания может быть только механическая причинность, то, значит, естественная целесообразность (в достоверности которой он, впрочем, нисколько не сомневается) не может быть предметом познания. Что же она такое? Пусть будет она предметом рефлексии, и ради этого пусть суждения делятся на определяющие (для механической причинности) и рефлектирующие (для целесообразности). Так опасны предвзятые мысли даже для великих критических умов. Впрочем, изобретение ad hoc искусственных терминов есть вообще одна из слабостей Канта. Весьма часто, ради симметрии в каком-нибудь частном и совершенно ненужном подразделении понятий, он изобретает особое слово, которое затем остается без всякого употребления, встречаясь только один этот раз? Вместе с тем Кант впадает в другую, еще более неудобную крайность: один и тот же, иногда весьма важный термин он употребляет в различных и даже противоположных смыслах. Таково, между прочим, его употребление терминов "разум", "метафизика", "опыт". "Разум" имеет у него три главных смысла: во-1-х, это есть, в отличие от рассудка, специальная способность образования идей; во-2-х, разум (теоретический), включая сюда и рассудок, и чувственное восприятие, обозначает всю сферу нашей познавательной и мыслительной деятельности, и выделение из всей этой сферы чистых или априорных элементов составляет в этом смысле "критику чистого разума"; в-3-х, наконец, разум (практический) обозначает самоопределяющуюся волю. Под метафизикой Кант разумеет, с одной стороны, запредельное (трансцендентное) и, следовательно, незаконное и мнимое употребление ума для познания сущностей или вещей самих в себе: души, мира, Бога, а, с другой стороны, тем же термином он обозначает априорное и совершенно законное познание явлений со стороны их общих определяющих условий или законов -- такова метафизика природы, основанная на критике чистого разума; наконец, метафизикой же Кант называет систему априорных определений нравственности, имеющих не познавательный, а только практически обязательный характер (метафизика нравов). Под опытом Кант разумеет, с одной стороны, то, что есть данное в познании, независимое от нашего ума, а, с другой стороны, напротив, опыт есть произведение нашего ума, построение, которое он делает из чувственных данных, посредством своих априорных форм и категорий. Все недостатки содержания и изложения у Канта не могут затмить его великих заслуг. Он поднял общий уровень философского мышления; основной вопрос гносеологии поставлен им на новую почву и в принципе решен удовлетворительно; он сделал навсегда невозможным в философии наивное признание пространства и времени за самостоятельные реальности или за готовые свойства вещей; он утвердил безусловный примат практического разума или нравственной воли, как предваряющего условия должной действительности; он дал безукоризненные и окончательные формулы нравственного принципа и создал чистую или формальную этику, как науку столь же достоверную, как чистая математика; наконец, своим диалектическим разбором старой догматической метафизики он освободил ум человеческий от грубых и недостойных понятий о душе, мире и Боге и тем вызвал потребность в более удовлетворительных основаниях для наших верований; в особенности своею критикою псевдорациональной схоластики в области теологии он оказал истинной религии услугу, в значительной степени искупающую односторонность его собственного морально-рационалистического толкования религиозных фактов. Место, занимаемое Кантом в историко-логическом развитии новой философии, указано мною в статье Гегель 1 3 . Философия Канта (в особенности "Крит[ика] чист[ого] разума") произвела сильнейшее движение умов и вызвала необъятную литературу. Но безусловных последователей у Канта нашлось сравнительно немного. Это достаточно объясняется тем, что некоторые из главнейших вопросов, выдвинутых на первый план "Критикою чистого разума", оставлены самим Кантом или без всякого решения, или с решением двусмысленным, что требовало дальнейшей самостоятельной работы мысли. Из строгих кантианцев более замечательны: Йог. Шульц, которого толкования критики чистого разума вполне одобрены Кантом, Л. Г. Якоб и К. X. Э. Шмид, издавшие несколько филос[офских] учебников по Канту, К. Л. Рейнгольд ("Письма о философии Канта"), при всем своем увлечении новой точкой зрения, должен был отступить от системы учителя и, пытаясь ее исправить, несколько раз менял взгляды. Еще свободнее относился к кантианству великий поэт Шиллер, усвоивший и талантливо развивавший только одну сторону учения, именно идеи о жизни, красоте и искусстве.-- Из противников Канта заслуживают упоминания: Гарве (с точки зр[ения] популярной философии XVIII в.), Зелле и Вейсгаупт (с точки зрения Локка), Федер и Тидеман (с точки зр[ения] Локка и отчасти Лейбница), чистые лейбницианцы Эбергард и Шваб, скептик Г. Э. Шульце (в его "Aenesidemus").
ПРИМЕЧАНИЯ
Вл. Соловьев вел в Словаре Брокгауза и Ефрона в течение нескольких лет один из важнейших разделов -- историю философии. Среди его собственных статей (а их около 200) по самым различным отраслям гуманитарного знания выделяются особо статьи о Канте и Гегеле, Конте, Платоне, Данилевском, Леонтьеве. Ряд статей Вл. Соловьева посвящен основным философским понятиям (напр., свобода воли, действительность, мировой процесс, природа, пространство и др.). Первая статья Вл. Соловьева появилась в V (1) томе Словаря, последняя -- в XXIX (2). Из двухсот статей только чуть более 60 вошли в русские Собрания сочинений (см.: Соловьев Вл. Собр. соч.: В 10 т. Изд. 2. СПб., 1911-1914. Т. 10). Более полно они представлены в немецком издании философа. Впервые опубликована в XIV (2) томе Энциклопедического словаря. Вошла в первое и второе русские собрания сочинений. Об отношении Вл. Соловьева к Канту существовали совершенно противоположные точки зрения. Так, открывающая 56-й номер "Вопросов философии и психологии", целиком посвященный только что умершему философу, статья видного русского неокантианца А. И. Введенского "О мистицизме и критицизме в теории познания В. С. Соловьева" (Речь, произнесенная в публичном заседании С.-Петербургского философского общества, состоявшемся в память Вл. С. Соловьева 3 декабря 1900 г.) объявляла заслугой Соловьева "распространение у нас критицизма" и "пополнение исследования Канта" (Вопросы философии и психологии. 1901. No 56. С. 17). Точка зрения Введенского подверглась резкой критике в статье Вл. Эрна "Гносеология В. С. Соловьева" (Сборник первый о Владимире Соловьеве, М., 1911. С. 129--207), в которой Введенский упрекался в том, что он "не столько изучает гносеологию Соловьева, сколько неокантизирует по поводу нее" (там же. С. 129--130). Некоторый обзор мнений об отношении Вл. Соловьева к Канту и современное историко-философское разрешение этой проблемы см.: Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. С. 79--84. 1 Всеобщая естественная история и теория неба (1755) // Кант И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 1. 2 Вопрос о том, стареет ли земля с физической точки зрения (1754). О причинах землетрясений (1756). Новые замечания для пояснения теории ветров (1756) // Там же. 3 О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого // Кант И. Собр. соч. Т. 2. 4 См.: Гулыга А. В. Кант. М., 1977. С. 42-44. 5 Видимо, имеется в виду письмо Маркусу Герцу от 7 июня 1771 г., в котором Кант писал о работе над этим сочинением (Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 523--526). Ранее эта же работа фигурирует в виде замысла в письме Канта И. Г. Ламберту от 2 сентября 1770 г. (там же. С. 520--523); имеются в виду следующие работы Канта: Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука (Собр. соч. Т. 4. Ч. 1); Основы метафизики нравственности (там же); Метафизические начала естествознания (Т. 6); Критика практического разума (Т. 4. Ч. 1); Критика способности суждения (Т. 6); Религия в пределах только разума (Кант И. Трактаты и письма). 6 См.: Фишер Куно. История новой философии. СПб., 1901. Т. IV. Кант. С. 280. 7 или антиципация восприятия (см.: Кант И. Собр. соч. Т. 3. С. 241--248). 8 Там же. С. 248-278. 9 Там же. С. 280-286. 10 См.: Фишер Куно. Указ. соч. С. 627. 11 предвосхищение основания (лат.) -- логическая ошибка, заключающаяся в допущении недоказанной посылки для доказательства. 12 умозаключение от действительного к возможному имеет силу (лат.). 13 См. наст. том. С. 424-426.
Анализ критики трансцендентальной философии Канта русскими философами всеединства на рубеже XIX и XX вв. выявляет некоторые существенные моменты, помогающие уяснить специфику религиозной философии и оценить ее в контексте взаимовлияния западной и отечественной философских традиций. Взгляды философов всеединства выражают, наверное, крайнюю отрицательную позицию в русской философии по отношению к Канту. Учение Канта избирается в качестве средоточия всех пороков западного философствования (субъективизм, психологизм, индивидуализм, «имманентизм»), которому русская мысль должна противопоставить собственную оригинальную концепцию «цельного знания». В этом смысле концепция всеединства представляет особенный интерес для осмысления интерпретации критицизма в русской мысли и в целом для понимания влияния западной философии на русскую культуру.
Указанная проблематика предполагает в первую очередь обращение к критике кантовского наследия Вл. Соловьёвым, философом, заложившим основы концепции всеединства и «цельности» знания. Предпринятый им критический анализ теоретической и практической философии Канта можно охарактеризовать как самый объективный и взвешенный в русской религиозной мысли. Полемика Соловьёва с критицизмом очень показательна для осознания своеобразия русского философствования. Его замысел философского преобразования религиозной веры и стремление к гармоничному единству и взаимопроникновению философии и религии перед лицом кантовского учения обнаруживает свою утопичность.
Соловьёв высоко оценивал вклад, сделанный трансцендентализмом в развитие мировой философии. Он признавал тот факт, что все недостатки содержания и изложения у Канта не могут затмить его великих заслуг. Самые существенные положения критицизма - по Соловьёву - это зависимость мира явлений от ума и безусловная независимость нравственного начала. Не соглашаясь в корне с кантовским решением вопроса о познании, Соловьёв признает заслугу Канта в новом его видении. Гносеологическая проблема перенесена Кантом на иную почву: отныне акцент ставится не на осмыслении сущности вещей, а на осмыслении сущности самого познания, его возможностей и границ.
Для Соловьёва также важнейшим завоеванием критической философии выступает учение о пространстве и времени, которые ставятся в ряд всеобщих форм познающего сознания и уже не рассматриваются как самостоятельные сущности или качества предметов. Изменяется и смысл истины: она перестает быть мерой постижения вещей сознанием и становится мерой всеобщности и необходимости в оформляющей функции сознания. В понимании Соловьёва, после Канта вся последующая философия находится в непосредственной зависимости от переворота, произведенного «Критикой чистого разума» именно потому, что поставила предел догматизму и наивному реализму как в сфере опыта, так и в сфере метафизики.
В практической философии, по мысли Соловьёва, Кантом также совершен гигантский прорыв. Соловьёв называет Канта «Лавуазье нравственной философии». Выделение автономного элемента в нравственности и формула морального закона, считает Соловьёв, предстают одним из величайших успехов человеческого ума. Кант обосновывает безусловную независимость нравственного начала от всех привходящих эмпирических элементов, получая в конечном итоге чистое ядро нравственности. Моральный закон - всеобщий необходимый принцип, имеющий цель в самом себе. Для Соловьёва бесспорным остается тот факт, что именно Кант впервые поднял нравственную философию на тот уровень, где она может рассматриваться как достоверное знание.
Итак, для Соловьёва учение Канта - поворотный пункт в истории философии, от которого отмеряется новая эпоха в рефлексии о нравственности и познании. Кант - глобальный реформатор, разрушитель догматической метафизики и наивного реализма, эмпирической этики и психологизма. Он вывел философию на новый уровень, поставил по-новому и углубил ее фундаментальные задачи.
Между тем Соловьёв склонен видеть в философии Канта скорее преодоление прежнего пути метафизики и возбуждение новых идей, нежели решение их и создание положительного учения. Все упреки в адрес Канта можно в целом сформулировать так: это обвинение в формализме (что касается и нравственной философии), в критичности без положительного осмысления, в субъективизме, а также в противоречивости и незавершенности системы. Необходимо понять, как Соловьёв строит свою критику, и выявить главный мотив, стоящий за обвинениями в отношении кантовских положений.
Принципиально важно уяснить, как Соловьёв понимает специфику философии. В своей поздней работе «Теоретическая философия» (1899) Соловьёв пишет, что в сравнении с такими проявлениями субъективного творчества, как наука и искусство, философский дискурс характеризуется незавершенностью. Ведь достоинство философии не в том, что достигнуто, а в замысле и решении познать саму истину, или то, что есть безусловно - актуально пребывающее сущее всеединое, пронизывающее собою все. По Соловьёву, всякая настоящая философия должна быть верна этому замыслу, и только ему. Положительная сущность учения зависит оттого, насколько в ходе построения философской системы растет, крепнет и полнеет чистый, мысленный образ самой безусловной истины. Таким образом, принципиальная незавершенность философии преодолевается. Проводя историко-философский анализ, Соловьёв приходит к выводу, что кантианство, как и картезианство и гегельянство, демонстрирует уклонение от этого пути. Субьекту и общим нормам его деятельности как познающего придается статус самостоятельно существующего, безотносительно к самой истине. И теоретическая философия, и этика с этой точки зрения как бы повисают в воздухе, остаются пустыми, бессодержательными, противоречивыми. Моральный закон покоится сам по себе, а божественное бытие и вера являются только неизбежным выводом из постулирования должного нравственного поступка. Соловьёв определяет свою позицию как прямо противоположную кантовской, согласно которой метафизика ставится в зависимость от безусловно обязательного нравственного начала. Из него Кант выводит бытие Бога, бессмертие и свободу, ограничивая, по мнению Соловьёва, достоверность этих метафизических положений их нравственным значением. Если нравственный закон самодостаточен и имеет все условия своей действительности, то зачем же тогда Бог и душа, вопрошает Соловьёв. Если же нет, тогда к чему было расправляться с доказательствами божественного бытия. В итоге получилось чисто отвлеченное учение, считает Соловьёв, которое ни коим образом не может быть применено на практике. Отвлеченный морализм покоится на совести в человеке, которую Соловьёв называет в одном месте психическим свойством, а в «Критике отвлеченных начал» «отрицательным регулятором». В статье «Гегель» Соловьёв пишет, что критицизм обрек человеческий дух на пустоту. И формы чувственности, и категории разума нисколько не ручаются за соответствующие им реальности, ведь в опыте вещи остаются только явлениями, мы не можем знать, каковы они сами по себе. А вне опыта идеи разума еще меньше ручаются за действительность. В кантовском учении Бог, душа, свобода, по мысли Соловьёва, это регулятивные принципы, дающие только формальную законченность нашим космологическим и психологическим понятиям. Позиция Соловьёва ясна: Кант - выдающийся представитель философии «отвлеченных начал», под которыми понимаются все философские односторонности, возникающие в истории философии, сменяющие одна другую, и все еще не пришедшие к цельному синтезу. Учение Канта дуалистично, это очередная ступень в развитии субъективного, формального с точки зрения Соловьёва начала, которое достигло своего апогея у Гегеля.
Разбор основных направлений западной философии позволяет Соловьёву сделать вывод о том, что все попытки как эмпирической, так и рациональной философии построить систему истинного знания вязнут в непреодолимых противоречиях. Наука, оперирующая эмпирическими фактами, и отвлеченная философия не могут дать нам целостного мировоззрения, не способны связать глубины бытия с повседневностью, ответить на извечные фундаментальные проблемы человеческого существования. Эти источники познания не могут дополнить друг друга, они далеки от всеобщности. Эмпиризму, считает Соловьёв, присуща относительная действительность, а рационализму - относительная разумность.
В отталкивании от отвлеченных начал западной философии Соловьёв формулирует кредо русской философской традиции - цельное знание об истине как всеедином сущем - не отвлеченном, а вполне конкретном начале, для чего необходимо вернуться к авторитету веры, к религии, по-новому осмысленной. Истинное знание, включающее опыт и рацио, невозможно без третьего связующего и актуализирующего звена - веры или мистического знания, ведь в основе истинного знания лежит мистическое или религиозное восприятие, от которого только логическое мышление получает свою безусловную разумность, а опыт - безусловную реальность.
Вера (интуиция, чувство Бога) может постичь предмет во всей его внутренней целостности и связи его с иным. Именно ее связующей силе обязаны целостное видение мира и целостный подход к познанию этого мира. Истинное мировоззрение, в котором будут гармонично сосуществовать три главных источника знания, осуществляется, по мысли Соловьёва, в форме свободной теософии: синтез науки, философии и религии, в котором обновленная религия является главным элементом. Осуществление Истины - истинного синтеза - положительного всеединства, полагает Соловьёв, задача для ума и нравственных устремлений человека. Необходимо организовать всю деятельность таким образом, чтобы она была внутренне подчинена нашим духовным устремлениям. Религиозная истина должна быть введена в форму свободно-разумного мышления и реализована в данных опытной науки. Таким образом вся область истинного знания организовывается в полную систему свободной и научной теософии.
Итак, основополагающие принципы системы Соловьёва выстраиваются в отталкивании от отрицательного опыта западного рационализма. В этом противоречии именно трансцендентализм Канта воплотил для Соловьёва основные неприемлемые черты - «имманентизм» и субъективизм, противоречивость, незавершенность и антиномичность. В качестве главного врага новой своеобычной русской традиции философствования учение Канта с неизбежностью подвергается Соловьёвым «препарированию» и упрощению для вписывания в программу радикального переворота в философии. Моральное учение и теория познания искусственно противопоставляются, трансцендентальный субъект трактуется как эмпирический субъект (отсюда упреки в субъективизме и психологизме), учение о свободе интерпретируется как полная самодостаточность субъекта и произвол. Из этого вытекает и критика Соловьёвым моральной веры Канта. По Соловьёву, достоверность веры не может основываться на необходимости нравственных норм. Моральная необходимость не является критерием истинности постижения. Во-первых, нравственный закон Канта формален и не несет в себе истинного содержания. Во-вторых, сама нравственность - прогресс реально пребывающего Добра, хоть и утверждается Соловьёвым как автономная сила, на деле является следствием софийного преображения космоса и затем истории, становлением Абсолюта в хаосе бытия. Религиозно-метафизический и историософский детерминизм определяют торжество Добра.
В концепции всеединства вера - важнейший элемент познания, связующий и одухотворяющий разум и опыт. Вера вносит цельность в структуру знания, объединяя все средства и предмет познания. Именно она делает знание истинным, удостоверяя существующую абсолютную истину - всеединое. У Канта вера допускает существование абсолютного исходя из нравственной необходимости. У Соловьёва вера удостоверяет существование абсолютного как объективно существующего - выступает как мистический опыт. Конечно, Кант не мог не видеть мистическое содержание веры, но он заведомо не включал ее в систему истинного, необходимого познания, так как она принципиально не может быть объектом философской рефлексии. Это сугубо личный, сокровенный опыт, остающийся вне задач научной методологии.
Соловьёв обосновывает метафизику догматически - в полном соответствии с критикуемой Кантом традицией. Мотивом этого обоснования выступает, по всей видимости, стремление к основательности, гарантированности, ощущению присутствия фундаментальных основ, более надежных, чем неустойчивое и относительное человеческое бытие, и придающих этому относительному бытию смысл и цель. По Канту же, человеческое как свобода уже несет в себе абсолютную ценность, как законодательствующий субъект оно уже несет в себе истину. Кант ставил перед собой исключительно философскую задачу -сказать то, что возможно о смысле, целях, возможностях и границах познания, и о смысле и целях свободы.
Перед Соловьёвым стоит, скорее, практическая задача и его теория преследует прежде всего практическую цель: совершенствование мира, преодоление себялюбия, осуществление христианских идеалов любви к ближнему, достижение абсолютных ценностей. Учение Соловьёва инспирировано фундаментальным проектом обоснования все увеличивающегося Добра в мире и нравственного прогресса, преобразования человеческого познания как на личностном уровне, так и в аспекте системы наук, и, более того, преобразованием всего человеческого общества в нравственную и просвещенную общность - Церковь. Тем не менее, в соотнесении с учениями своих последователей - философов всеединства, - поставленная Соловьёвым задача синтеза веры, религии и науки на новых началах выступает несомненно философским проектом преобразования и самой философии, и догматической веры. С. Булгаков и П. Флоренский демонстрируют намного более радикальное отношение к проблеме сосуществования и взаимоотношения философии и религии, веры и нравственности.
Нравственная философия как система: этика "Соборного добра" B.C. Соловьева
А.А. Гусейнов
Нравственная философия B.C. Соловьева (1853-1900) явилась вершиной развития русской этики. Она определила ее расцвет в первой четверти XX в. и в период создания этических систем русского зарубежья. По словам Н.Я. Грота, она стала "первым опытом систематического и совершенно самостоятельного рассмотрения основных начал нравственной философии. Это - первая этическая система русского мыслителя" . Того же мнения придерживался и Э.Л. Радлов, оценивая нравственное учение Соловьева как "единственную законченную систему этики на русском языке" . В отличие от своего непосредственно предшественника Л.М. Лопатина, Соловьев переносит акцент с этического мировоззрения на нравственную деятельность, сутью которой является для него "собирательное воплощение добра", "всеобщая организация нравственности". Все это оказалось чревато ослаблением мировоззренческой автономии этики. Соловьев признает независимость и самостоятельность этического начала, но в определенных границах, Прежде всего он выступает против "односторонней зависимости этики от религии и метафизики". Однако эта независимость этического носит у него чисто феноменологический характер: она означает естественный и самоочевидный источник нравственности - естественный в религиозном отношении и самоочевидный в метафизическом.
1 Вопросы философии и психологии. 1897. № 36 (1). С. 155.
2 Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 188. Справедливости ради следует отметить, что отдельные критики обвиняли этику Соловьева в публицистичности и проповедничестве, в "преобладании субъективной фантазии над трезвой мыслью" (Чичерин Б.Н. О началах этики // Вопросы философии и психологии. 1897. № 39 (4). С. 630). Однако, на наш взгляд, прав был Радлов, заметивший, что Соловьев смотрит на свое сочинение ("Оправдание добра") не только как на теоретический трактат, но и как на нравоучительный труд и что в этом отношении этика Соловьева "примыкает как последнее звено к целому ряду посланий и поучений, которыми переполнена вся древняя Русь и которые в измененной форме и с обновленным содержанием продолжают существовать до настоящего времени". См.: Радлов Э.Л. Указ. соч. С. 188.
Главный труд B.C. Соловьева по этике - "Оправдание добра: нравственная философия" (1897) - призван был, по замыслу автора, стать первой частью системы "положительной" философии. Идея положительной" философии возникла у Соловьева в связи с критикой "отвлеченных начал", которую он пытался основать на "некотором положительном понятии того, что есть подлинно целое или всеединое". Отсюда и проистекала его "положительная" философия "всеединства", которую он подразделял на три части: этическую, гносеологическую и эстетическую, выражающие соответственно нравственную деятельность, теоретическое познание и художественное творчество. Соловьеву удалось завершить только первую часть своей системы: за "оправданием добра" должны были последовать "оправдание истины" и "оправдание красоты"; однако эти части остались разработанными на уровне отдельных статей по "теоретической философии" и "положительной эстетике" (философии искусства).
Философская система Соловьева не случайно начинается с этики и даже в известной степени удовлетворяется завершенной и систематической этикой. В предмете этики Соловьев усматривает безусловное и самоочевидное начало, "бесспорно доступное нашему познанию", полагая, что только в области нравственной философии "познание совпадает со своим предметом", не оставляя места для критических сомнений. Именно в этой связи Соловьев и провозглашает независимость нравственной философии от теоретической (от гносеологии и метафизики). О самодостаточности "оправдания добра" можно судить хотя бы по тому, что в конце своего сочинения Соловьев говорит не о переходе к "оправданию истины", а о необходимости "оправдания Добра как Истины в теоретической философии".
Предметом нравственной философии, по Соловьеву, является понятие добра в его непосредственной взаимосвязи с нравственным смыслом жизни. Такая взаимосвязь обусловлена тем, что по своему назначению человек есть "безусловная внутренняя форма для Добра как безусловного содержания" и что, следовательно, смысл его жизни может быть найден только через добро, так же как и добро может быть оправдано только смыслом жизни. Безусловность добра выражается в том, что само по себе оно "ничем не обусловлено, что оно все собою обусловливает и через все осуществляется". Первый момент, по Соловьеву, определяет чистоту добра, второй - ее полноту, а третий - силу, действенность. Если в этике Канта нашел свое выражение первый признак добра - чистота, то Соловьев видит свою задачу в том, чтобы обосновать второй существенный момент - полноту или всеединство добра, а также показать органическую взаимосвязь всех моментов безусловности добра. Исходя из этого, Соловьев рассматривает понятие добра в единстве трех ступеней его проявления, что нашло свое отражение в структуре и содержании произведения, состоящего из трех частей: 1) добро в человеческой природе; 2) добро как безусловное, божественное начало ("добро от Бога"); 3) добро в человеческой истории. Данная последовательность рассмотрения ступеней добра проистекает, согласно Соловьеву, из самоочевидного религиозного ощущения, "слагаемого из трех нравственных категорий: 1) несовершенства в нас, 2) совершенства в Боге и 3) совершенствования как нашей жизненной задачи".
Характерно, что Соловьев начинает свое исследование не с безусловного божественного "прообраза" добра или исторических форм его осуществления, а с самоочевидных "первичных данных нравственности", присущих природе человека: чувств стыда, жалости и благоговения, исчерпывающих собой все сферы возможных нравственных отношений человека: к тому, что ниже его, что равно ему и что выше его. Эти отношения понимаются Соловьевым как господство человека над материальной чувственностью (аскетическое начало в нравственности), как солидарность с живыми существами (принцип альтруизма) и как внутреннее подчинение сверхчеловеческому началу (религиозное начало в нравственности). Все остальные нравственные отношения (добродетели) рассматриваются как видоизменения трех первичных основ. Например, великодушие и бескорыстие как видоизменения добродетели аскетической; щедрость как особое проявление альтруизма и т.д.
Первая часть "Оправдания добра" завершается критикой "отвлеченного эвдемонизма" и его разновидностей (гедонизма, утилитаризма), которые не в состояний выразить полноту добра. Благо, как безусловная желательность и действительность добра, отделяется здесь от самого добра, и в своей отдельности понимается как благополучие, являющееся неопределенным и неосуществленным требованием жизни.
Вторая часть сочинения Соловьева начинается с определения "единства нравственных основ". Обосновывая коренную внутреннюю связь стыда, жалости и благоговения, Соловьев усматривает в ней реакцию "скрытой целости человеческого существа" против "индивидуального разделения пополам", "эгоистического обособления" и нарушения "религиозного целомудрия", отделяющего человека от Бога. В целостной природе человека добро совпадает с благом, так что этика чистого долга не может противоречить этике эвдемонизма.
Ключевым моментом второй части можно считать главу "Безусловное начало нравственности", в которой Соловьев пытается определить полноту, совершенство добра (единство добра и блага), выступающую в трех видах: 1) безусловно сущее, вечно действительное совершенство - в Боге; 2) потенциальное совершенство - в человеческом сознании и воле, вмещающих в себя абсолютную полноту бытия как идеал и норму; 3) действительное становление и осуществление совершенства во всемирно-историческом процессе". Это позволяет Соловьеву сформулировать категорический императив "этики всеединства": "В совершенном внутреннем согласии с высшею волею, признавая за всеми другими безусловное значение, или ценность, поскольку и в них есть образ и подобие Божие, принимай возможно полное участие в деле своего и общего совершенствования ради окончательного откровения Царства Божия в мире".
Отталкиваясь непосредственно от "категорического императива совершенствования" Соловьев переходит к третьему моменту безусловности добра - действительному осуществлению совершенства. Процесс совершенствования рассматривается при этом не только как богочеловеческий, но и как богоматериальный процесс. Историческому осуществлению добра предшествует "бытийная" действительность нравственного порядка. Положительное единство всемирного процесса совершенствования получает в этике Соловьева троякое выражение: 1) низшие царства входят в нравственный порядок как необходимые условия его осуществления; 2) каждое низшее обнаруживает тяготение к высшему; 3) каждое высшее материально и духовно вбирает в себя низшее. В этой части исследования нравственная философия Соловьева приобретает ярко выраженные софийные черты, позволяющие усматривать в "действительности нравственного порядка" единство онтологии и этики.
Совершенный нравственный порядок предполагает, согласно Соловьеву, нравственную свободу каждого лица, которая может быть осуществлена только в рамках исторического развития общества, или "собирательного человека". Этим намечается переход к третьей части "Оправдания добра": рассмотрению добра через историю человечества. Исходным пунктом этой части является обоснование единства личности и общества, определяющего "лично-общественную" природу человека и "лично-общественный" характер жизни, которому в историческом развитии соответствуют три главные ступени: родовая, национально-государственная и вселенская. Далее Соловьев прослеживает историческое развитие "лично-общественного" сознания в его главных направлениях, предпринимая сравнительный анализ буддизма, платонизма и христианства и делая вывод о положительном, целостном религиозно-нравственном универсализме христианства в сравнении с отрицательным универсализмом буддизма и односторонним универсализмом платонизма.