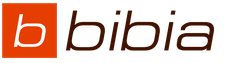Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.
Предисловие
Я побывал во многих городах и могу с полной уверенностью утверждать, что ни в одном из них нет таких удивительных кладбищ, как в Париже. Здесь они совершенно другие и в отличие от немецких кладбищ вовсе не производят на посетителей того жуткого, зловещего впечатления, к которому мы привыкли, скорее наоборот. Возможно, потому, что французы лучше заботятся о мертвых, а каждый школьник здесь знает, что, к примеру, Эдгар Дега похоронен на Монмартре, а Мопассан и Бодлер – на Монпарнасе.
С бульвара Менильмонтан можно попасть на кладбище Пер-Лашез – так называется самое большое и самое красивое кладбище Парижа. Свое необычное название оно получило благодаря Пьеру Лашезу, исповеднику Людовика XIV.
Наряду с Эдит Пиаф, Джимом Моррисоном и Симоной Синьоре здесь похоронены Мольер, Бальзак, Шопен, Бизе и Оскар Уайльд. Где именно? Об этом вам охотно поведает один из смотрителей и тут же предложит купить за несколько франков план кладбища.
В ясные солнечные дни, особенно весной и осенью, множество людей отправляются в паломничество к могилам своих кумиров. Среди посетителей нетрудно узнать тех, кто приходит в первый и, возможно, в последний раз, а также появляющихся здесь регулярно. Некоторые из них приходят каждый день, чаще всего в одно и то же время, и совершают в память об умерших свой особый, имеющий только для них значение ритуал.
Если вы захотите на собственном опыте убедиться в правдивости данного утверждения, то будьте готовы приходить на кладбище Пер-Лашез много дней подряд в одно и то же время. Что я, собственно говоря, и делал. Сначала без какой– либо определенной цели, и уж во всяком случае, даже не надеясь узнать одну из самых захватывающих историй, когда-либо слышанных мною.
Уже на второй день я обратил внимание на хорошо выглядевшего для своих преклонных лет мужчину, стоявшего у надгробного камня с лаконичной надписью «Анна 1920–1971». Прокручивая в памяти события тех дней, могу сказать, что мой интерес был вызван по большей части экзотическим оранжево-синим цветком в руке незнакомца, ведь я уже успел на собственном опыте убедиться: необычный цветок часто скрывает за собой необычную историю. Как раз по этой причине я был просто обязан заговорить с пожилым мужчиной.
К моему величайшему удивлению, незнакомец оказался немцем, живущим в Париже. Он говорил крайне неохотно, я бы даже сказал, настороженно, отвечая на мой вопрос относительно того экзотического цветка (речь шла о цветке райской птицы, который еще часто называют стрелицией). На следующий день, при нашей повторной встрече, уже я оказался в роли отвечающего на вопросы, потому что незнакомец начал настойчиво меня расспрашивать, и прошло довольно много времени, прежде чем он поверил, что и задал свой вопрос исключительно из любопытства, присущего большинству писателей, а не выполняя поручение неких личностей.
Такое отношение незнакомца к совершенно, казалось бы, безобидному вопросу укрепило мою уверенность в том, что на этой необычной ежедневной церемонией на кладбище Пер-Лашез скрывается нечто большее, чем просто трогательный жест. Хотя я уже представился незнакомцу, свое имя он мне сообщить не торопился, что, однако, не помешало мне пригласить его поужинать в ресторане моей гостиницы – конечно же, если у него есть время. Последнее замечание заставило его усмехнуться, и он тут же ответил, что у мужчин его возраста времени предостаточно, а поэтому он принимает приглашение.
Должен признаться, в тот момент я не особо верил в то, что незнакомец сдержит свое обещание. Мне казалось, он согласился с одной целью – поскорее избавиться от моих назойливых расспросов. Представьте мое удивление, когда в условленное время мужчина появился в ресторане «Гранд-отель» и девятом округе, где я жил, и, присев за мой столик, достал старый иллюстрированный журнал, который тут же привлек мое внимание.
Казалось, незнакомец намеренно положил передо мной журнал, а затем начал с упоением рассказывать о красотах Парижа. С моей точки зрения, это чистейшей воды садизм, ведь подобные ситуации могут стать для таких любопытных людей, как я, настоящей мукой и причинить почти физическую боль. Каждый раз, когда я предпринимал попытку перевести разговор на столь интересовавшую меня тему, мой собеседник тут же вспоминал еще одну достопримечательность, которую, по его мнению, обязательно должен был посетить гость города. Лишь позже я понял, что незнакомец боролся с собой и со своими сомнениями, не отваживаясь довериться мне и рассказать свою историю.
Я совсем было потерял всякую надежду, как вдруг мужчина взял в руки иллюстрированный журнал, раскрыл где-то посередине и пододвинул ко мне со словами:
– Это я. Если точно, это был я. Еще точнее – это должен был быть я.
Незнакомец пристально смотрел на меня.
Выражение моего лица в то время, когда я внимательно изучал журнал, наверняка доставляло моему собеседнику настоящее удовольствие. Я чувствовал на себе его пристальный взгляд, словно незнакомец ожидал услышать возглас удивления. Но ничего подобного не произошло. В статье речь шла о репортере этого журнала, погибшем во время войны в Алжире. На нескольких страницах были помещены фотографии, рассказывающие о его жизни, а на последней – ужасно изуродованный труп. Должен признаться, я был растерян.
Худ. Юрий Ракша. "Разговор о будущем".(Или "Тайное вечере") Холст. масло. Третьяковская галерея.
Ирина РАКША
ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Новелла
Не плачьте обо мне, но плачьте
о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни,
в которые скажут: блаженны
неплодные и утробы неродившие...
Евангелие от Луки, 23.28.
I.
Когда мы вспоминаем о Боге, то часто осеняем себя спасительным знаком, крестом. Это как молитва, выраженная в жесте. Порой мы крестимся машинально, не задумываясь. Но обязательно как бы охраняя себя от зла. Или каясь, или искупая собственные грехи. Но не всегда помним, что крест - это символ воскресения. Бессмертие, подаренное нам Богочеловеком Иисусом Христом. И не всегда вспоминаем, какой ценой оно было даровано. Ведь крест - это еще и муки, распятие тела. И даже смерть. И только потом, потом воскрешение. Мы же в быту, в повседневных наших хлопотах просто не помним о тех невероятных страданиях, которые перенес Иисус Христос, дабы наглядно явить нам путь воскрешения и бессмертия. Некогда античный писатель Цицерон писал, что казнь распятием на кресте, среди всех других придуманных человечеством за всю историю, самая страшная. В IV веке, когда христианство в Европе восторжествовало, став основной религией, людей распинать перестали. Позорная эта казнь, чинимая в основном над рабами и низшим римским сословием, как бы ушла в прошлое. И трудно представить, что в нашем ХХ цивилизованном веке ее возродили. В нацистских лагерях смерти (и в советских Соловках) заключенных распинали. И нередко. Педантичные немцы даже вели медицинские записи, фиксируя поминутное поведение казнимых на кресте. Болевые муки, одышка, остановка легких и сердца. Эти жуткие свидетельства говорят о нестерпимых страданиях казнимых. Двадцать веков назад Христос, добровольно идя на крест, конечно же, знал об этом.
Еще будучи с учениками, говорил, что скоро Он - Сын Человеческий - будет предан в руки злые, на муки. И шел Он на это сознательно. Не как слепой Агнец. Цель была столь высока, что оправдала все. Он шел к Воскрешению. И воскрес, своими страданиями искупив наши бесчисленные грехи. И сорок дней еще провел на земле. Общался с учениками, пророчествовал. «И множество людей видело Его». Так Иисус наглядно показал всем возможность и их бессмертия. А оно, по словам Христа, воздастся каждому по покаянию. И еще - «по вере и делам его».
Минули века. И каждую весну, в России, празднуют светлую Пасху, Великое Воскресенье Господне! Навсегда запомнила я «запрещенные» Пасхи моего послевоенного детства, когда было опасно иметь в доме икону, крестить детей, украшать к Рождеству елки, и уж тем более молиться и ходить в храмы. Все это большевики «заклеймили», назвали «враждебными строю, буржуазными пережитками». Это было тогда чревато гибелью карьеры, и даже вообще гибелью, смертью, тюрьмой. Сегодняшним молодым странно даже слышать такое. Но мы-то, мое с трудом выжившее поколение этого не забудет, поскольку уж никогда не избудет из своих душ въедливый, удушающий страх самого прежнего существования. Православие в России в советские времена выжило только благодаря старухам и женщинам-страстотерпицам, которые героически, веря в помощь Божью, тайно крестили детей и внуков, свято молились, и за жалкие свои копейки зажигали в храмах перед иконами покаянные свечи за безбожников и за черное время... Помню, в конце сороковых, Сталин вдруг почему-то разрешил елки. И в Новый год, забыв, что это дерево - для даров Божьих, «зажгли», устроили детям первую Елку в Кремле. (Я, как и все, завидовала этим счастливцам!) В общем, запрет на елки был наконец снят. А вот с Пасхой было куда сложнее. Мы с мамой жили тогда в Останкино, в рабочем бараке со множеством перенаселенных беднотой комнат. Перед Пасхой все в доме стирали белье, мыли окна, как могли наводили порядок и красоту. При этом, конечно, не афишируя, а просто как бы готовясь к весне. Мама загодя копила луковичную шелуху, доставала цветные чернила, пестрые тряпочки. Загодя мы с ней покупали два десятка бесценных яиц. В магазин ходили вдвоем, потому что «в одни руки» давали лишь по десятку. И вот наступали торжественные предпраздничные хлопоты. Мама поплотней задергивала шторы, на двери накидывала крючок и в комнате, на керосинке (на этот случай ее приносили из общей кухни), по-особому, с солью, отваривались яйца. Наконец (о радость, о священнодейство), мы садились за стол под уютный светящийся абажур. По клеенке, чтоб не запачкать, расстилались газеты (конечно, с портретами вождя в каждой). И мы начинали красить пасхальные яйца. Это был настоящий праздник! Вся перепачканная зелеными, синими, красными красками, высунув язык от старанья, я выводила по цветной скорлупе две заветные буквы «Х. В.» Я уже знала, что это - Христос, и Он - Воскрес, и знала, что это значит... Моя мама была выдумщицей. Она умела раскрашивать яйца так, что они были лучшими в доме! (Ведь пасхальные яйца тайно дарились, а малышней обменивались, «чокались» и, конечно, сразу жадно съедались.) Наши «особенные» яички были то мраморными, то с переливами, то одноцветными. И на каждом смело красовались две «опасные» буквы - «Х. В».
Потом, полушепотом прочитав «Отче наш», мы раскладывали эти пестрые волшебные яйца по зеленой овсяной травке, в тайне от соседей выращенной мамой в тарелке. И вот в предпасхальную ночь это чудо ставилось посредине круглого под оранжевым абажуром стола, застланного белоснежной, хрустящей от крахмала скатертью. Так было почти у всех соседей. И иконки так же тайно хранились за дверцей в буфете. Но если кто-то нежданно стучал в нашу обитую старым одеялом дверь, мама тотчас прикрывала все это полотенцем... А уж поход в храм на Пасху был для всех жильцов нашего останкинского барака особым событием и даже подвигом. Мужчины ходить домочадцам в церковь категорически запрещали. Но женщины и старухи (втихую или со скандалами), взяв куличи, повязав платочки понарядней, получше, упрямо тащили своих ребятишек за худые, хрупкие ручки к Боженьке в Храм. Эти походы вспоминаешь как чудо. Ведь там было то, чего так не хватало в суровой жизни. Там был сам Бог: добрая улыбка и ласковая молитва, песнопения и просфорка, теплый аромат ладана и озаряющий свет свечей. Там была Надежда. Вот так цепочкой, от руки старческой к ручке детской, и передалась, не прерываясь, на Руси православная вера.
II.
Ах, какая это замечательная земля, древняя теплая Палестина. Она голубая, потому что на берегу Средиземного моря. Она золотая, потому что покрыта гористой желтой пустыней. Она зеленая, потому что там, где вода (река или озеро - Иордан, Кедрон), зеленеют плантации финиковых пальм, плодовые сады и оливковые рощи. И еще она белая, потому что тысячи лет здесь по холмам строят дома из белого пористого песчаника, добытого в местных каменоломнях. И теперь, сквозь это цветное великолепие, я еду на машине по земле, которую две тысячи лет называют Святой Землей. Ибо это родина земной жизни Иисуса Христа. И каждый христианин, будь то православный или католик, мечтал хоть раз в жизни побывать здесь. Коснуться стопой, ладонью, взором тех благодатных мест, где родился и рос Сын Божий. Где учил и творил чудеса. И вот моя мечта сбылась - с группой российских паломников я ступила на Святую Землю. И на глаза навернулись слезы.
Какое это светлое и смиренное званье - паломник. Сколько тысяч прошло их по Святой Земле. Воистину «блаженны нищие духом». Это постигаешь только возле святынь. В этом паломничестве я, например, впервые поняла и прочувствовала великую роль византийской царицы Елены, святой греческой женщины, и сына ее Константина. Ведь именно им мы обязаны возможностью поклониться святым местам, связанным с жизнью Господа.
В четвертом веке царица с сыном, богатые христиане, приехали сюда из Константинополя и в течение многих месяцев с трудом отыскивали все святые места. Затем строили, ограждали их стенами прекрасных храмов. Вифлеем, Назарет, Хеврон. А храмы на берегах Галилейского моря? А тугие струи Иорданской воды, ощутимые лишь при погруженье? А туманная гора Фавор. Но главное, конечно, Иерусалим: «Вечный город, побивающий камнями пророков своих». А в Иерусалиме - Путь Скорби (Виа Долороза), путь Христа на Голгофу. Восхождение к Смерти и Бессмертию. Возле этих святынь чувствуешь себя, как у истоков мирозданья. Вернее, чувствуешь не себя, а словно текущую сквозь твою душу толщу времен, бесконечность прошлого и будущего.
III.
Там, в Иерусалиме, идя по Пути Скорби, я поняла, как много может поведать нам о страданиях Господа великая христианская Святыня - Туринская Плащаница. Собственно, Туринской ее назвали, когда в 1578 году это полотно выставили на обозрение в Италии, в городе Турине. В соборе св. Иоанна Крестителя. Хотя нашли ее двумя веками раньше под Парижем, в имении графа Жоффруа де Шарни. И сразу же тысячи паломников отовсюду потянулись к священной реликвии. К отрезку ткани, в которую ученики завернули тело Иисуса после снятия с креста. И в ней же похоронили во гробе. Из истории мы знаем, что материя была дорогой. Из хлопка. С нитью тройного плетенья. Длина полотна - 4,3 метра, ширина - 1,1 метра. Ее купил убитый горем Иосиф Аримафейский - богатый и уважаемый член Синедриона (иудейского парламента), тайный ученик Иисуса, узнав, что Учитель, распятый на кресте, умер.
В воскресенье, придя ко гробу, жены-мироносицы нашли камень, закрывавший вход в грот, отваленным, а гробницу пустой. «Что вы ищете живого среди мертвых? - услышали они. - Он воскрес!» Да, он еще явится ученикам. И до вознесения еще сорок дней будет делить с ними стол и кров. А тогда в Гробу лишь светлая Плащаница одиноко лежала внутри на желтоватом мраморе ложа. Эта полоска ткани, явив чудо, дошла до нас сквозь века.
Ее оригинал, эту величайшую святыню, документ истории, со всем тщанием хранит Ватикан, очень редко выставляя для обозрения и изучения. В Москве же мы можем видеть привезенную в Сретенский собор копию Плащаницы в великолепном исполнении.
На светлом фоне полотна проступают пятна, линии коричневатых тонов, которые четко рисуют очертания Лежащего, с бородой и длинными волосами.
О существовании святыни было известно давно. В древней литургии, восходящей к апостолу Иакову, брату Иисуса, говорится: «Петр и Иоанн поспешили вместе ко гробу и увидели на пеленах ясные следы, оставленные тем, Кто умер и воскрес». Святая Нина, просветительница Грузии (племянница Святого Георгия Победоносца), свидетельствовала, что ткань первоначально хранилась у апостола Петра, а затем тайно, в связи с гонениями на христиан, передавалась от ученика к ученику.
Византийские хроники говорят, что Плащаница имела отчетливое свечение, «видимое не только в темноте». В 436 году сестра императора Феодосия Второго святая Пульхерия бережно хранила Плащаницу в базилике во Влахерне, что под Константинополем. В 640 году епископ Галльский упоминает о Плащанице после своего паломничества в Иерусалим и дает ее точные размеры. (Вероятно, ткань вернули на Святую землю, опасаясь иконоборчества, охватившего Византию). Однако в ХI веке Константинопольский император Алексий Комнин в письме к Роберту Фландрскому пишет: «Среди наидрагоценнейших реликвий Спасителя у меня находятся Похоронные Полотна, найденные в Гробе после Воскресения». Есть и более поздние упоминания о хранящейся в базилике Буклеона в Константинополе «окровавленной Плащанице Христовой», выставляемой порой для поклонения верующим... В 1201 году Николай Мазарит, спасший Плащаницу от огня во время пожара и бунта императорской гвардии, сообщает: «Похоронные Ризы Господни - из ценного полотна и еще благоухают помазанием. Они воспротивились разложению потому, что закрывали и одевали нагое, миррой осыпанное Тело Бесконечного в смерти».
Шли столетия. В средневековье, боясь подделки, Плащаницу стали тщательно изучать. Ее вываривали в масле, действовали химикатами, нагревали, прожаривали, охлаждали. Убеждались, что изображение не выдавлено, не напечатано, не нарисовано. Что поверхностные части волокон обуглены, сожжены некоей невероятной, необъяснимой и мгновенной энергией. В дальнейшем, чем больше человечество погрязало в грехах, сомнениях и неверии, тем сильнее разгорались споры о подлинности реликвии. ХХ же век, с его техническим прогрессом, дал спорам новое направление. Все началось с фотографии, сделанной в 1898 году итальянским фотографом Секондо Пиа. Проявив пластинку, автор, к своему изумлению, увидал не негативное, а позитивное изображение. И Лика Христа, и всего Тела. Это была сенсация! И она означала, что на полотне запечатлен негатив!
Но как могло случиться, что за 19 веков до изобретения человечеством фотографии таковая уже существовала?! Этот неопровержимый необъяснимый факт сильно смутил скептиков. Тем более что при дальнейшем микро-фотографировании проявились даже отпечатки монет, положенных на глаза распятого человека так, как это делали обычно иудеи в начале нашей эры. К тому же это были монеты, чеканившиеся только около 30-х годов нашей эры. Более того, одна из монет - лепта Пилата с надписью «Император Тиберий» - оказалась редчайшей, с неизвестной нумизматам дотоле орфографической ошибкой. После публикаций сенсационной фотографии в различных коллекциях мира были обнаружены еще четыре такие монеты. А годы шли. И вот во время следующего показа и доступа ученых к святыне (в ХХ веке их было три) знаменитые французы-биологи, профессора Сорбонны, изучая изображение на полотне, доказали, что оно «анатомически совершенно точно». Кроме того на «фотографии» были обнаружены «следы ран от игл тернового венца, гвоздей, ударов копьем и бичами, с тремя тяжелыми наконечниками». Ученые определили даже ток ручьев крови, связанный с вздрагиванием казнимого - при ударах - от боли. «Изумительная анатомическая точность изображения не поддается рациональному объяснению». «На отпечатавшемся изображении спинно-брюшная симметрия выдержана с точностью до ангстрема». В итоге бывший скептик и ярый атеист профессор Делаж, заканчивая свой доклад во Французской академии, воскликнул: «Да, это Христос! И Он воскрес!»
IV.
День был весенний, солнечный. Воздух над пятью холмами, на которых раскинулся древний Иерусалим, напоен терпким ароматом миндаля, кипарисов, цветов желтого дрока. Мы, паломники, стоим в Гефсиманском саду у древних олив, которых осталось лишь восемь, да, да, непостижимо, но это те самые, уже измученные столетиями жизни, подпертые палками, оливы. Это под ними после Тайной Вечери под ночной луной Христос молился Отцу. Это здесь заснули его утомленные за день ученики. И стражники с горящими факелами арестовать Иисуса шли здесь. А впереди - Иуда, чтоб поцелуем предать. И тревожный отсвет пламени недобро блеснул в его злых зрачках. Потом Христа погнали через ущелье в Иерусалим, к «Львиным воротам», откуда и начался его последний, Крестный путь. Конечно, все, что вы узнаете ниже, может вызвать у читателя, даже в наш жестокий век, душевную боль и содрогание. Но в отличие от жуткой информации, которую мы ежедневно почти бесстрастно получаем с экранов телевизоров, Страсти Господни иные. Их испытал, погибая за человечество (и за каждого из нас), Иисус Христос, Богочеловек. Он имел Божественную душу и бренное, как у каждого смертного, тело. Так найдем же в себе мужество хотя бы знать о случившемся. Чтобы не давать себе права малодушно забыть Его земной подвиг.
Итак, после снятия с Креста Богоматерь, плачущие женщины, любимый ученик юный Иоанн (будущий автор Евангелия от Иоанна) и Иосиф положили Иисуса на камень помазания, на только что принесенную новую ткань. После помазания тела ароматными смолами, так называемой миррой, вторая часть полотнища была переброшена через голову - над Ликом покойного - к ногам. Таким образом на полотне запечатлелся весь облик лежащего. И со спины, и сверху. Рассматривая изображение, можно видеть, что гвозди, которыми были прибиты руки Иисуса к кресту, проходили не сквозь ладони. (Так привыкли изображать Распятого средневековые художники. Так рисуют и по сей день.) Гвозди были вбиты в запястья, меж лучевыми костями. Нацисты в ХХ веке доказали это экспериментально. Если гвозди вбиваются в ладонь, то под тяжестью тела ладонь меж пальцами рвется. Гвоздь же, вбитый меж костями, удерживает тело на кресте. К тому же гвоздем перебивается мышца, которая управляет большим пальцем. (Гвозди в те времена были кованые, трехгранные, о чем говорят раскопки.) На Плащанице у покойного, действительно, большие пальцы рук безвольно подогнуты.
Смерть распятого человека наступала от удушья. Вздернутые руки держали легкие в растянутом состоянии. На ноги, прибитые гвоздями, почти нельзя опереться, а потому растянутыми, находящимися в напряжении легкими невозможно было вздохнуть, то есть вдохнуть, набрать воздуха. Руки рвались на гвоздях. А спины казнимых, при попытках несчастных приподняться на прибитых в плюсны ногах, ползали по неотесанному бревну, обдираясь в кровь. Позвоночники превращались в кровавое месиво. Постепенно мышцы грудного пояса сводило немыслимой судорогой. И, в конце концов, наступало удушье. Казнимые так молодые рабы могли терзаться, мучиться на крестах по несколько суток. И потому в римском воинстве считалось даже гуманным - ударом меча перебить казнимому кости голеней.
Чтобы тот не мог больше опираться на ноги. Чтобы смертельное удушье сразу же прекратило муки.
V.
По доносу Иуды арестовали Христа в среду. В четверг был допрос, издевательства и побои. Казнить же его предстояло в пятницу, одновременно с еще тремя арестованными разбойниками. Кстати сказать, одного из них в честь наступающего праздника Пасхи предполагалось по обычаю помиловать, отпустить. А в эту субботу в Иерусалиме как раз и наступала еврейская Пасха. Этот праздник, по тогдашнему иудейскому календарю, начинался всегда накануне, в три часа предыдущего дня. То есть в пятницу. А в праздник нежелательно было казнями огорчать горожан. В Пасху ни римскому прокуратору Пилату, ни иудейским членам Синедриона не хотелось видеть поблизости, на Голгофе (это название означает - лоб) неприятную казнь - три креста с висящими мертвецами. К тому же существовало правило - с наступлением темноты запрещалось касаться трупов, чтобы не осквернять себя. А потому все торопились, и казнь решено было ускорить. Начали в пятницу поутру, примерно в девять. С тем расчетом, чтобы к заходу солнца казненных, сняв с крестов, захоронить. Все так и сделали. К празднику, по требованию толпы, был великодушно отпущен один из разбойников, Варавва. А двое других распяты на Лобном месте по правую и левую стороны от Христа. Разбойники были молоды и здоровы, и ждать их смерти пришлось бы долго. А потому римские стражники ударами перебили им голени. Когда же подошли к Иисусу, «то увидели, что он уже мертв». Тогда пронзили его предсердие копьем. «И истекли кровь и вода».
Но все-таки почему Иисус через три часа после распятья был уже мертв? Да, Он был худ, но никогда не был слабым человеком. Он рос в доме плотника и сам не мог не плотничать. Последние годы Он, никогда не имевший своего дома, много ходил. Однажды сказал: «Птицы имеют гнезда, лисы имеют норы. А Сын Человеческий не имеет, где главу приклонить». Из конца в конец обошел Он страну. И один, и с учениками. По горным тропам, пыльным дорогам, по каменистой пустыне. Собственно, вся Его жизнь была сплошным странствием. Он мог, например, сорок дней поститься, оставаться вовсе без пищи... Нет, Он не был слабым. Можно вспомнить, как Он, придя в Иерусалим, с гневом разогнал в храме торговцев, менял. «Не оскверняйте дома Отца моего». С силой разметал тяжелые их столы и клетки. Он всегда легко проходил сквозь любую толпу... Так почему же на кресте Он так быстро испустил дух?.. Может, и на это нам ответит Туринская Плащаница?
VI.
Молча, медленно двигаюсь в группе паломников по ночной узкой улочке. Виа Долороза. Она зажата двумя каменными слепыми стенами, двери арабских лавок и окон закрыты наглухо. Тихо. Над головами в темном небе яркие палестинские звезды. Там в синей бездне засияла некогда и Звезда Его Рождества - Вифлеемская... Как вокруг безветренно. Тихо. Мне с трудом верится в реальность происходящего. В то, что это и есть Его последний, Крестный Путь. И не дает покоя вопрос: почему, почему Он так скоро испустил дух? Вот миновали Лифостратос - место судилища и дальнейших мучений. Неужели ноги мои ступают по тем самым, отполированным столетиями плитам? По тем, по которым шли когда-то Его измученные стопы?.. Идем медленно, узкая улочка чуть петляет. Шелестят наши шаги. Скоро придем к Голгофе, к Храму Гроба Господня. Время службы для православных с двенадцати и до утра. «Ночная молитва Богу слышнее». Уже скоро, скоро коснемся, припадем лбами к плитам, на которых лежало Его Святое Тело. Но все же почему Он всего «через три часа испустил дух»?.. Размышляя, пытаюсь ответить себе сама. Очевидно потому, что был очень ослаблен, ибо был заранее сильно мучим.
По римскому праву (а Палестина входила тогда в состав Римской империи и жила по римскому праву) нельзя было виновного за один и тот же проступок наказывать дважды. На Плащанице же видно, что осужденный был еще наказан и бичеванием. И распят. Но почему? Ведь это противозаконно и вовсе не свойственно римскому праву?.. На это отвечает текст Евангелия.
Римский прокуратор Понтий Пилат не видел в арестованном Иисусе «никакой вины» и, чтобы спасти Его (даже лечившего его жену), решил наказать его лишь бичеванием. По еврейским законам это не более сорока ударов. (Ибо после сорока жесточайших ударов у казнимых могла наступить смерть). Он надеялся, что толпа, увидев Иисуса окровавленным, не станет требовать иной казни. Так Христос был избит. Однако толпа, подстрекаемая архиереями, не унималась. Трижды обращался Пилат с предложением отпустить Иисуса к Пасхе, но евреи кричали: «Распни Его! Распни! Он за царя себя выдает. А у нас нет другого царя кроме Кесаря». И Пилат, убоявшись уже за себя, сдался. Однако, не желая невинной крови, просил принести таз с водой, сказав: «Я умываю руки». Толпа же продолжала кричать:
«Распни Его! Распни! Пусть кровь будет на нас и на детях наших!» И отпустить, дав свободу к празднику Пасхе, пришлось убийцу Варавву. А Иисуса предать на мученья. С тех самых пор уже две тысячи лет живет фарисейская фраза: «Что ж, я умываю руки».
VII.
Исследованная учеными Туринская Плащаница рассказывает нам сейчас, как бичевали Христа. Бич был ременной, треххвостый. В конец каждого хвоста был вплетен свинцовый шарик. К тому же с шипами. Казнимого привязывали к невысокому столбу, связав руки вокруг столба. Палачей было двое. (Камень бичевания перенесен был некогда царицей Еленой из Лифостратоса в Храм Гроба Господня.) И если ныне приложить к его холодной каменной поверхности ухо, то можно слышать, как беспощадно свищут те бичи. (А может, это от волненья бьется собственное сердце?) По кровавым рубцам на теле Спасителя, что отпечатались на Плащанице, ученые смогли определить даже рост обоих палачей. Один был высок, другой гораздо ниже. К тому же удары таких бичей приходились не только по обнаженной спине. Они достигали груди и боков, и торса. Крутящимися шариками вспарывали и кожу, и плоть мучимого. Иисусу был нанесен максимум ударов. Их было 39. Не поскупились! Даже Понтий Пилат, увидев, как Иисус мужественно переносит эти страданья, произнес: «Се человек!» («Воистину человек!»). Но это не смягчило толпу.
Впрочем, физические страданья Христа начались еще в последнюю ночь перед Его арестом в Гефсиманском саду. Помните, как после последней трапезы, Тайной Вечери, когда предавший учителя Иуда уже ушел за стражниками, а Иисус с учениками вышел в ночь под звездное небо? Он в последний раз молился, прося Бога Отца «пронести мимо чашу сию», чашу предстоящих телесных мук и страшной смерти на кресте. И от высочайшего душевного напряжения «кровавый пот» выступил на Его лбу, заливая лицо. Современная медицинская наука четко объясняет это спазмами и разрывами капиллярных сосудов в моменты нервного перенапряжения.
VIII.
Свою последнюю ночь Иисус провел в Лифостратосе, в казармах римских воинов, расположенных тут же, неподалеку от Претории, где Иисуса судили. Наутро по узкой каменной улочке Виа Долороза, по каменным плитам, истертым до блеска подошвами, Иисус понесет свой Крест. Правда, история утверждает, что Он нес на своей избитой истерзанной спине не целый крест, а лишь тяжелую перекладину, к которой были привязаны Его руки.
На Голгофе, на вершине Лобной горы, казнимых ожидали три загодя вкопанных столба. Тяжеленный брус-перекладину ослабленный предыдущими истязаниями Иисус нес через силу, с огромным трудом. Он останавливался, опершись рукой об уличную стену. Он трижды падал, разбиваясь лицом о камни. И истерзанная спина, и затылок Его побивались этим же бревном. Сам донести до места сей страшный груз Он, обессиленный, так и не смог. И стражники приказали случайно встреченному, возвращающемуся с поля крестьянину, Симону Кориенянину, ставшему впоследствии горячим христианином, помочь обреченному. Все эти подробности известны сегодня не только из Евангелия. Об этом рассказывает и Пятое Евангелие - Плащаница. Микроанализы показали даже, как расположен был груз на спине. Сколько он весил... И мне стало понятно, почему Христос умер на кресте первым - спустя три часа. Римским стражникам даже не пришлось перебивать ему голени. Над головой казненного была прибита поперечная дощечка с издевательским приговором всего в четыре слова: «Иисус Назаретянин - Царь Иудейский». (Вы и сегодня в любом храме можете увидеть над распятьем эти четыре буквы - «ИНЦИ».) Когда же Иисусу копьем солдаты пронзили сердце, «излились кровь и вода».
Это евангельское свидетельство с научной точностью объяснено сегодня учеными-медиками. Такое смешение крови и лимфы возможно лишь при инфаркте, разрыве околосердечной сумки. Однако зачем римским охранникам понадобилось наносить уже умершему, поникшему на кресте казненному этот удар копьем?.. И на этот вопрос есть ответ и у апостолов, и в «пятом Евангелии».
IX.
Итак, в последнюю ночь своей земной жизни Иисус был отдан на глумление римской солдатне, в казармы. В низких, сводчатых каменных помещениях было холодно. Обогреваясь, солдаты жгли костры. Дров не было, дерево в Палестине вообще на вес золота. А потому топили колючками, принесенными из степи и сваленными кучей в углу двора. Солдаты знали, что утром этого иудея казнят, но пока, не забивая его до смерти, можно было над ним потешиться от души... Была у них такая старинная игра «отгадай, кто ударил». (Дошла эта страшноватая игра палачей и уголовников и до нашего ХХ века. Играли в нее и беспризорники двадцатых, и голодные дети послевоенных лет.) Иисуса ставили в круг, сзади кто-нибудь с силой бил и затем, со словами: «Радуйся, царь Иудейский!» - требовали указать, кто ударил. В ту же последнюю предсмертную ночь Его сажали на гранитную плиту, воткнув босые ноги в каменные колодки. Была и еще одна игра, пострашнее, под названием - «Василевс» (Император). Еще со времен Македонского на стоянках солдатня играла в «императора» (нечто похожее на игру «в классики»). Провинившегося или обреченного, на одну только ночь, на потеху, шутейно провозглашали в казарме «императором». Перетаскивали по камням «из класса в класс». В конце концов, в последнем «классе» на несчастного накидывали красную, якобы «царскую мантию» (военную плащ-накидку) и, выполнив любое его желание, убивали. Правда, по-римски, вполне достойно, сразу боевым мечом. Теперь же в казармы солдат попал иудей-самозванец из какой-то глухой провинции - Назарета, якобы называвший себя Царем. Так почему бы не «поиграть» с этим смертником, не поразвлечься долгой, холодной ночью? И солдатня глумится. Хохочет. Его бьют, плюют в лицо. Потом накидывают на плечи пурпурную тряпку и, связав руки, суют в них палку, как скипетр. Затем этой же палкой перебивают нос, повреждают глаз. А на голову нахлобучивают «царский венец» из колючек, взятых тут же, из кучи топлива. Это был не просто «венок», как привыкнут изображать впоследствии. Это была глубокая «шапка» из страшно острых терновых колючек, «стальной коготь», потом названный «Шипы Христа». Эти шипы распороли Христу всю кожу на голове. На Его плечи и лицо кровь лилась буквально ручьями. На Туринской Плащанице четко видны эти извилистые потоки, по лбу, по щекам. Эта кровь впиталась в плащаницу обильно, и навсегда. Современные западные ученые, не верящие в чудеса, даже определили ДНК Иисуса и группу крови и обозначили как - «А1+». Кто обладает этой группой, в миру считается абсолютным донором. Ибо святая кровь Христа пригодна для каждого. Однако римские солдаты к утру «в императора» не доиграли. Ибо не было сделано последнего заключительного, убивающего удара. Они не имели на это права. И вот, когда на Голгофе, на кресте, Иисус испустил дух, охранники, стоявшие внизу, под крестом и охранявшие казнимых от толпы, решили «доиграть», потехи ради и ради одежд казненного, которые они тут же у подножья и разыграли между собой. И, перебив ноги разбойникам, они проткнули грудь Иисуса копьем. Это был последний удар. След от него отчетливо виден на Плащанице. Апостол Иоанн напишет об этом в Евангелии, в связи со сбывшимся ветхозаветным пророчеством, которое гласит: «Кости Агнца Божия не сокрушатся».
Х.
Мы прошли еще метров сто по Крестному пути, как по каменному коридору. Свернули вправо и вдруг оказались на просторном дворе. Звездное небо над головами словно распахнулось. И перед нами, чуть освещенный в ночной тишине, предстал древний каменный храм. Тот самый, что воздвигла Святая Елена. Под его куполами объединились Голгофа, Гроб Господень, могилы Никодима и Иосифа Аримофейского, камень Помазания. Оставалось перейти двор по гулким древним плитам. И ступить в полумрак, тишину святыни, где, кажется, само время остановилось. И чуткий воздух наполнен Его великим присутствием... («Где во имя мое соберутся двое или трое, и Я среди них»…) Ощущаю горячее счастье от возможности приблизиться, сделать навстречу Ему этот последний шаг, опустить лицо и ладони на камень гроба... и, замерев, как бы остановить мгновение...
Сняв с креста, Иисуса положили на плащаницу, даже не успев омыть, умастить благовониями. Ибо, по обычаю, с наступающей темнотой тело уже считалось неприкасаемым. В каменную пещерку Гроба, который некогда приготовил для себя Иосиф Аримофейский, тело Христа поспешно внесли завернутым в Плащаницу и положили на ступень каменного ложа. Затем, снаружи, подкатив многопудовый камень, закрыли им вход. И даже запечатали щель-шов особой большой, словно блин, восковой печатью. А еще приставили стражей. И римских, и иудейских, дабы ученики или близкие не могли выкрасть тело Учителя. В гробу, до появления там вновь жен-мироносиц, тело пролежало 36 часов. На Плащанице, как показали анализы, оно отпечаталось как раз в том биосостоянии - скелета, крови и ран - каким могло быть только на протяжении этого времени. На Плащанице отпечаталась даже та капелька крови, которая была на лбу Христа и не успела тогда впитаться в ткань.
Сколько бы мы не обращались к Евангелиям, написанным живыми свидетелями тех событий, сердце наше каждый раз замирает. От трагизма и величия свершившегося. И от последних слов, сказанных Им на кресте. Матери - «Жено! Се, сын твой». А любимому, юному ученику Иоанну, единственному в испуге не убежавшему: «Се, Матерь твоя!» И еще последнее - Отцу Своему Небесному: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». И сделалась тьма по всей Земле, и померкло солнце, и «завеса в храме Иерусалимском разодралась посередине». Так завершилась земная жизнь нашего Спасителя, чтобы продолжиться жизнью небесной и дать человеку земному надежду на жизнь вечную.
Каждую весну в России, когда под лучами уже теплого солнца подтаивают снега, звенит капель и распускается пушистая верба, наступает для меня, для нас, и для всех христиан на Земле, Великий Праздник - Пасха. Мы стараемся получше украсить дом, печем куличи, веселыми красками разрисовываем яйца и, главное, идем в храмы. А при встречах с радостью восклицаем: «Христос воскрес!» - и слышим в ответ тоже радостное: «Воистину воскрес!»
Филипп Ванденберг Пятое Евангелие
Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.
Предисловие
Я побывал во многих городах и могу с полной уверенностью утверждать, что ни в одном из них нет таких удивительных кладбищ, как в Париже. Здесь они совершенно другие и в отличие от немецких кладбищ вовсе не производят на посетителей того жуткого, зловещего впечатления, к которому мы привыкли, скорее наоборот. Возможно, потому, что французы лучше заботятся о мертвых, а каждый школьник здесь знает, что, к примеру, Эдгар Дега похоронен на Монмартре, а Мопассан и Бодлер - на Монпарнасе.
С бульвара Менильмонтан можно попасть на кладбище Пер-Лашез - так называется самое большое и самое красивое кладбище Парижа. Свое необычное название оно получило благодаря Пьеру Лашезу, исповеднику Людовика XIV.
Наряду с Эдит Пиаф , Джимом Моррисоном и Симоной Синьоре здесь похоронены Мольер, Бальзак, Шопен, Бизе и Оскар Уайльд. Где именно? Об этом вам охотно поведает один из смотрителей и тут же предложит купить за несколько франков план кладбища.
В ясные солнечные дни, особенно весной и осенью, множество людей отправляются в паломничество к могилам своих кумиров. Среди посетителей нетрудно узнать тех, кто приходит в первый и, возможно, в последний раз, а также появляющихся здесь регулярно. Некоторые из них приходят каждый день, чаще всего в одно и то же время, и совершают в память об умерших свой особый, имеющий только для них значение ритуал.
Если вы захотите на собственном опыте убедиться в правдивости данного утверждения, то будьте готовы приходить на кладбище Пер-Лашез много дней подряд в одно и то же время. Что я, собственно говоря, и делал. Сначала без какой- либо определенной цели, и уж во всяком случае, даже не надеясь узнать одну из самых захватывающих историй, когда-либо слышанных мною.
Уже на второй день я обратил внимание на хорошо выглядевшего для своих преклонных лет мужчину, стоявшего у надгробного камня с лаконичной надписью «Анна 1920–1971». Прокручивая в памяти события тех дней, могу сказать, что мой интерес был вызван по большей части экзотическим оранжево-синим цветком в руке незнакомца, ведь я уже успел на собственном опыте убедиться: необычный цветок часто скрывает за собой необычную историю. Как раз по этой причине я был просто обязан заговорить с пожилым мужчиной.
К моему величайшему удивлению, незнакомец оказался немцем, живущим в Париже. Он говорил крайне неохотно, я бы даже сказал, настороженно, отвечая на мой вопрос относительно того экзотического цветка (речь шла о цветке райской птицы , который еще часто называют стрелицией). На следующий день, при нашей повторной встрече, уже я оказался в роли отвечающего на вопросы, потому что незнакомец начал настойчиво меня расспрашивать, и прошло довольно много времени, прежде чем он поверил, что и задал свой вопрос исключительно из любопытства, присущего большинству писателей, а не выполняя поручение неких личностей.
Такое отношение незнакомца к совершенно, казалось бы, безобидному вопросу укрепило мою уверенность в том, что на этой необычной ежедневной церемонией на кладбище Пер-Лашез скрывается нечто большее, чем просто трогательный жест. Хотя я уже представился незнакомцу, свое имя он мне сообщить не торопился, что, однако, не помешало мне пригласить его поужинать в ресторане моей гостиницы - конечно же, если у него есть время. Последнее замечание заставило его усмехнуться, и он тут же ответил, что у мужчин его возраста времени предостаточно, а поэтому он принимает приглашение.
Должен признаться, в тот момент я не особо верил в то, что незнакомец сдержит свое обещание. Мне казалось, он согласился с одной целью - поскорее избавиться от моих назойливых расспросов. Представьте мое удивление, когда в условленное время мужчина появился в ресторане «Гранд-отель» и девятом округе , где я жил, и, присев за мой столик, достал старый иллюстрированный журнал, который тут же привлек мое внимание.
Казалось, незнакомец намеренно положил передо мной журнал, а затем начал с упоением рассказывать о красотах Парижа. С моей точки зрения, это чистейшей воды садизм, ведь подобные ситуации могут стать для таких любопытных людей, как я, настоящей мукой и причинить почти физическую боль. Каждый раз, когда я предпринимал попытку перевести разговор на столь интересовавшую меня тему, мой собеседник тут же вспоминал еще одну достопримечательность, которую, по его мнению, обязательно должен был посетить гость города. Лишь позже я понял, что незнакомец боролся с собой и со своими сомнениями, не отваживаясь довериться мне и рассказать свою историю.
Я совсем было потерял всякую надежду, как вдруг мужчина взял в руки иллюстрированный журнал, раскрыл где-то посередине и пододвинул ко мне со словами:
Это я. Если точно, это был я. Еще точнее - это должен был быть я.
Незнакомец пристально смотрел на меня.
Выражение моего лица в то время, когда я внимательно изучал журнал, наверняка доставляло моему собеседнику настоящее удовольствие. Я чувствовал на себе его пристальный взгляд, словно незнакомец ожидал услышать возглас удивления. Но ничего подобного не произошло. В статье речь шла о репортере этого журнала, погибшем во время войны в Алжире. На нескольких страницах были помещены фотографии, рассказывающие о его жизни, а на последней - ужасно изуродованный труп. Должен признаться, я был растерян.
Вы этого все равно не поймете, - наконец сказал незнакомец. - Прошло довольно много времени, прежде чем я сам разобрался, что к чему. Можете быть уверены, история, которую я собираюсь рассказать, - самая невероятная из всего слышанного вами до сих пор.
Я попытался было возразить, что за свою жизнь мне приходилось иметь дело с множеством непостижимых вещей, поскольку заурядные, обыденные события довольно редко обращают на себя внимание писателя. Дабы не показаться голословным, я тут же коротко рассказал о парализованном монахе, который, сидя в инвалидном кресле, поведал мне историю своей жизни и довольно убедительно объяснил, что именно заставило его попытаться свести счеты с жизнью, выбросившись из окна здания в Ватикане. Эту историю я описал в своей книге «Сикстинский заговор», но еще до выхода книги в свет парализованный монах исчез из монастыря. Отвечая на мои расспросы, аббат настаивал, что монаха в инвалидном кресле в его монастыре никогда не было. Должен заметить, мне это показалось более чем странным, ведь я провел не один день, разговаривая с пропавшим.
Прежде чем рассказать вам свою историю, я должен еще раз хорошо все обдумать. Встретимся завтра в кафе «Флора» на бульваре Сен-Жермен, там бывает довольно много писателей.
Забегая вперед, скажу, что в кафе «Флора» я выпил кофе в полном одиночестве, и это меня нисколько не удивило. По всей видимости, незнакомца испугало само предположение, что его история может послужить основой для книги. С другой стороны, такое поведение утвердило меня в мысли, что события, о которых мог поведать этот пожилой мужчина, выходили далеко за рамки его жизни и были связаны с чем-то гораздо большим.
Все великие тайны человечества берут свое начало с событий на первый взгляд довольно незначительных. И мне казалось, что судьба этого человека связана с одной из подобных тайн. Тогда я не мог даже предположить, насколько фундаментальным окажется эта связь. К тому же я был далек от мысли, что незнакомец с цветками райской птицы играл в этой драме лишь второстепенную роль. Должен предупредить, что главную роль сыграла женщина, на могилу которой он приводил. А я знал только ее имя - Анна.
Словосочетание «Пятое Евангелие» принадлежит Ницше. В 1883 г. он писал своему издателю, что сделал решающий прорыв и создал то ли поэму, то ли пятое евангелие, то ли то, что вообще не имеет названия. Речь шла о «Заратустре». Действительно, это сочинение порывает со старой европейской евангелической традицией. Ницше выявил в тысячелетнем процессе переписывания Послания ужасную тенденцию. Оно все улучшалось, становилось все более благим, но при этом в нем все резче проступал ужасный профиль ресентимента. Ницше отрицательно оценил попытки Ж.-Ж. Руссо (а тем самым также попытки Т. Джефферсона и Л. Толстого) написать «хорошее» Евангелие, тем не менее сам взялся переписать его. С одной стороны, Ницше не вышел в своем евангелии за рамки христианства. Это вообще невозможно для человека западной культуры. Нигилизм - закономерный, завершающий этап поисков смысла. Евангелие - это не открытие истины. Оно, строго говоря, не сообщение по содержанию и не нарратив по форме. В нем говорится о том, кто принес весть, а не о том, что эта весть содержит в себе. Христианство - это сообщение о том, что все есть ничто, что смысл непостижим. С другой стороны, Ницше пишет евангелие, в котором предлагает перейти «по ту сторону добра и зла», а точнее оправдать так называемое зло, ибо добро наносит вред жизни. Он хочет показать, что именно зло способствует расцвету жизни.
Разрыв Ницше с европейской евангелической традицией станет понятен, если обратить внимание на несовместимость риторики Просвещения с протестантизмом. Необходимо искать новую форму речи о совершенстве человека и прежде всего преодолеть джефферсоновский эклектизм. Дистанцирование от страдания, отказ от признания чуда делает невозможным признание Апокалипсиса секуляризированной публикой. Многие евангелические высказывания являются угрозами («А кто соблазнит одного из. верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море».- Мк. 9, 42). Тут уже не помогут редакторские ножницы, ибо сохранившиеся остатки Евангелия препятствуют свободному исследованию. Точно так же демифологизация едва ли спасает костяк Священного Писания. Печаль, страх - вот источник возвышенных речей. Оптимизм Просвещения непримирим с Апокалипсисом Библии. Чтобы «добрые послания» продолжались и принимались, необходим страх, питающий ранние послания. Тот, кто пытается создать и передать хорошее послание человечеству, неизбежно приходит к необходимости субверсии Евангелия. Человек, который обещает,- пытается сказать о том, чего еще нет, старым языком. Фактически проект Просвещения и манифест коммунистов и были компромиссом библейской стилистики с новыми ожиданиями, а может быть, компромиссом старых ожиданий с новой риторикой. Хотя не ясно, в чем, но речи просветителей напоминают речи евангелистов. Не случайно для пропаганды своих просвещенных идей Л. Толстой также использовал Евангелие.
Ницше не хотел пародировать Священное Писание. Его субверсия в форме «черных евангелий» - старая стратегия. Точно так же он не стремился дополнить лютеровские дифирамбы законами Ману. Исповедь и цитация заново комбинируются Ницше. Автор «Заратустры» искал новую основу евлогической силы речи, стремился избавиться от препятствия, названного ресентиментом. Поскольку старые «добрые послания» вели к деградации и порабощению человечества, Ницше хотел достичь эффекта исцеления и освобождения. Вершина этого - «Человеческое», где Ницше выступает как экзорцист. В «Веселой науке» он показывает, что ресентимент стал опасным орудием. Все, задуманное Ницше с лучшими намерениями, питалось ресен- тиментом и укрепляло его. Это катастрофический вывод - теологические и метафизические послания странным образом усиливали мизологию. В целом, как классическая мудрость, так и теоретический дискурс Просвещения оказались плохими системами речи. Они служили средством клеветы на власть, человека и мир и подавляли способность занять достойную позицию сильного и счастливого, гордого и уверенного существа. Старая стратегия борьбы с грехом гордыни в скрытом виде продолжалась и в эпоху гуманизма.
Хайдеггер, читая Ницше, наоборот, полагал, что человек - дитя гуманизма - слишком самодоволен. Но, кажется, постепенно он понял, что дело не в человеке, а в технике. Человек всегда кому-либо или чему-либо служит. Он только медиум. Ницше тоже не отрицал назначения человека служить силам и целям более высоким, чем он сам. Расхождение его и Хайдеггера состояло в выборе этой высшей силы - медиумом воли к власти или бытия оказывается человек?
Высокие культуры Азии и Европы, когда клали на весы вечности последнее слово своих посланий, оценивали бытие человека как бессмысленную череду страданий и обещали лучшую жизнь по ту сторону земного существования. Прежняя мораль - это универсализация мести. Сегодня кажется спасительным вернуться к языку Священного Писания, к гуманизму, рационализму. Но, во-первых, эти языки исключают друг друга. Во-вторых, они уже содержат вирусы морального ресентимента и не могут быть лекарством от отчуждения. Каков же выход? Обычно меняли один язык на другой. Сначала право транслировать послания человечеству узурпировала церковь. Потом этим занялись от лица государства институты образования, использовавшие языки метафизики, науки и идеологии. Они противопоставили потустороннему мир действительный. Собственно, в снятии противоположности между ними и состоял «прогрессивный» эффект таких речей. Однако осталось незамеченным то обстоятельство, что эти послания содержат дух мести и славят скорее человеческое безумие, чем разум.
Накануне Первой мировой войны везде процветал шовинизм и милитаризм. Ницше предупреждал об опасности этого «духа мести», но его не только не услышали, а, наоборот, использовали как национального мессию.
Кроме Сократа и Платона настоящим гением коммуникации в форме посланий был ап. Павел. Именно корректировкой его стратегии и был озабочен Ницше. Кроме посыльного он стремился поменять отправителя сообщения. Назначение его маневра - извлечь из Послания вирус ре- сентимента, интервенция которого в европейскую культуру была начата ап. Павлом. Ницше также хотел сохранить и перенаправить евангелический порыв. Это была грандиозная задача, требующая много времени и сил. Ницше писал, что хотя он не смог вполне осуществить ее, его имя останется в веках. Он называл свою книгу по-разному: как «книгу поучений» (Erbauungsbuch), как «святую книгу», как книгу «преодолений», как «Завет», как «пятое евангелие». Для самоназвания он использовал этикетку «сын Заратустры», а сам текст представлял как новую религию. Но причины всех этих именований лежат по ту строну пародирования. Прежние «евангелия» были ложными, они строились как «благие послания», а оказались триумфом мизо- логии. Все четыре евангелия есть не что иное, как корпус плохих посланий, написанных священниками, теологами - адвокатами Ничто, кастой слабых, но жаждущих власти людей, которые обрели власть над сильными и смелыми личностями, обвинив их во всех грехах. Эту же стратегию продолжают современные журналисты и философы-идеалисты, которые пропагандируют ресентимент и наслаждаются чувством страха, который они сами и культивируют. Ницше поставил задачу опровержения этой ми- зологической пропаганды и утверждения себя первооткрывателем нового пути культуры. Он писал: «Я изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою перед восходом солнца: таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня»132.
Евангелие Ницше порывает с тысячелетней традицией; в противоположность «хорошему посланию», он написал плохое. Свою задачу Ницше видел в том, чтобы устранить отравленное послание и заменить его новым, оказываю- щим целительное воздействие на читателей. Если старое послание вело к отречению от жизни, то послание Ницше - утверждение жизни. Оно противостоит энтропии культуры. В современном понимании этого слова «информативным» является такое сообщение, которое уменьшает неопределенность, хаос и обеспечивает порядок. Но поскольку далеко не все люди способны творить и управлять собою, то евангелие Ницше для меньшинства, для избранных, более того, оно - «для никого». Это послание не имеет адресата, ибо сейчас еще нет никого, кто бы мог его воспринять. Меланхолия Ницше во многом была вызвана тем, что за годы после выхода «Заратустры» у него так и не появилось ни одного ученика. Не противоречит ли это мнению, что Ницше осуществил «виталистский» поворот в мышлении эпохи тем, что ассимилировал вся языки, утверждающие жизнь, и создал принципиально новое славящее ее послание? «Действенно-историческое» значение «Заратустры» оказалось не таким, как ожидал Ницше. Заратустра был объявлен пророком воли к власти. Не опровергает ли это тезис об отсутствии адресата послания Ницше? Причину этого расхождения следует искать во внутренней экономии нового послания, которое требовало за право его распространения поистине невозможную плату. Тот, кто его распространяет, считается проповедником «плохого послания». Проблема в том, что если я, как философ, заблуждаюсь, например сейчас, когда пишу эти строки, то это можно признать. Совсем другое дело, когда говорят: Вы - плохой человек, Вы пропагандируете зло. Это нельзя признать, как в случае критики ошибок.
Ницше стал изгоем. От своих учеников он требовал слишком радикальной абстиненции от иллюзий и стереотипов, настолько радикальной, что обрекал их на одиночество. О. М. Ф. Розеншток-Хюсси назвал Ницше, Фрейда, Маркса и Гобино четырьмя «дизангелистами» XIX столетия. «Пятое евангелие» Ницше продолжает стратегию разрушения иллюзий, начатую им в «Веселой науке». Эта стратегия кажется безнадежной и тупиковой. Она строится на «разволшебствовании», стремление к которому само имеет суицидальный подтекст. Ницше хотел вернуть миф.